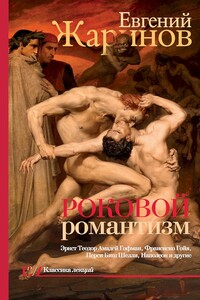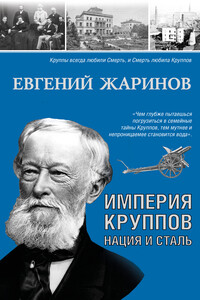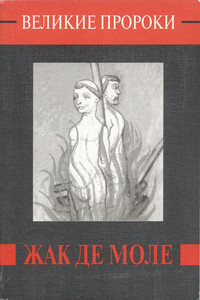Лекции о литературе. Диалог эпох | страница 55
Даже в этом небольшом отрывке можно видеть все архетипы фаустианской сюжетики: студент, черный пудель, сделка с дьяволом. К чести Загоскина следует отметить, что писатель не стал до конца следовать традициям «неистового» романтизма и с помощью комически-бытового освещения придал всему повествованию игривый оттенок в духе романтической иронии Гофмана, оставив своего читателя в недоумении. Хотя и в комическом виде, в духе простой мистификации, но следующий рассказ, «Белое привидение», удовлетворяет читательскому ожиданию, которое уже было зарождено во вступлении и в первой новелле, когда речь шла о привидениях и таинственном доме.
При чтении этого цикла рассказов создается устойчивое впечатление, будто писатель постепенно подводит своего читателя к некоему по-настоящему откровенному разговору о дьяволе, бесах и нечистой силе в жизни человека. Если в предыдущих рассказах это была лишь игра, веселая мистификация, то в рассказе «Концерт бесов» фантасмагория предстает перед нами без каких-либо соотношений с реальной жизнью. По мнению В. Ю. Троицкого, именно в этом рассказе влияние гофмановской фантастики ощущается больше всего.[41]
«Концерт бесов» соответствует следующим романтическим клише: любовь-безумие; страсть к искусству, демоническая одержимость и, наконец, продажа души дьяволу. Последний мотив напрямую связан с немецко-пуританской традицией, берущей свои корни из народных книг о докторе Фаусте.
По сути дела, рассказ Загоскина посвящен теме оживших мертвецов. Эта тема стала весьма популярной и прочно вошла в русскую романтическую литературу благодаря переводам В. А. Жуковского баллад Бюргера. Как справедливо заметил Г. Флоровский о поэте-романтике, «Жуковский был и остался навсегда (в своих лирических медитациях) именно западным человеком, западным мечтателем, немецким пиетистом, всегда смотревшим «сквозь призму сердца, как поэт». Поэтому именно он умел так изумительно переводить с немецкого. Это сама немецкая душа сказывалась по-русски…»[42] Отметим лишь, что мертвый затем и посещает живых, что грех, с позиций протестантизма, нельзя искупить, от него нельзя избавиться постом, молитвой и покаянием. Грешник и в могиле останется частью мира, а не исчезает бесследно, более того, он станет частью бесконечного космоса, будет участвовать в борьбе и движении невидимых сил. И в этом смысле весьма примечательна реплика возлюбленной-призрака героя рассказа Зотова: «…мы никогда не увидимся ни в здешнем, ни в другом мире; и хотя, мой милый друг, всем мирам и счету нет <…> но мы уж ни в одном из них не встретимся с тобою».