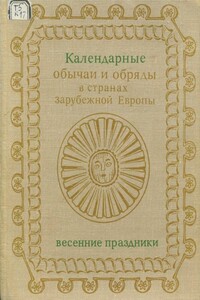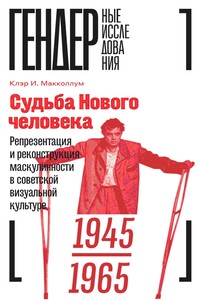История, ожившая в кадре. Белорусская кинолетопись: испытание временем. Книга 1. 1927–1953 | страница 53
Воссоединение Западной и Восточной Беларуси открыло перед документалистами Минской студии кинохроники новые темы, фактуры и возможности. При этом масштабные, полнометражные документальные ленты об освободительном походе Красной Армии были прерогативой Московской студии кинохроники (только в столице СССР могли компетентно трактовать вопросы геополитики!), а не столь значимые, локальные сюжеты, посвященные культурной, хозяйственной или социальной тематике, остались суверенной территорией белорусских документалистов.
Одна из таких «местных» тем была положена в основу хроникально-документального фильма «Домик в Новогрудке» – о Доме-музее Адама Мицкевича, снятого оператором И. Вейнеровичем в феврале 1940 года.
Решение об учреждении музея было принято Новогрудским ревкомом еще во время Гражданской войны, однако музей был открыт польскими властями только в 1938 году. Из титров-надписей (фильм без звука) зритель мог сделать вывод, что музей был открыт совсем недавно и посетители впервые знакомятся с его экспозицией. Безусловно, за полгода советской власти музей был существенно обновлен, причем структура новой экспозиции была призвана подчеркнуть единство культур Польши, России и Беларуси.
Фильм И. Вейнеровича имел важное культурно-просветительское значение. Камера зафиксировала общие планы довоенного Новогрудка, снятые с верхней точки. Западнобелорусский ландшафт с живописными развалинами замков и шпилями костелов был совершенно чужд и неизвестен не только российскому, но и восточнобелорусскому зрителю. Это был, без преувеличения, экранный фрагмент совершенно неведомого мира…
Титры-надписи и кадры из хроникально-документального фильма «Домик в Но в о грудке» (1940)
Вместе с тем даже по общим планам музейного интерьера видно желание устроителей экспозиции создать несколько односторонний образ польско-белорусско-литовского поэта эпохи романтизма. Подбор экспонатов всячески подчеркивал идейную связь А.Мицкевича с декабристами К.Ф. Рылеевым и А.А. Бестужевым, русскими поэтами и писателями – А.С. Пушкиным, А.А. Дельвигом и другими. В то же время в экспозиции нет и намека на близкие дружеские отношения между Мицкевичем и князем Петром Андреевичем Вяземским, который, будучи хорошим поэтом, стал первым переводчиком на русский язык «Крымских сонетов». И уж конечно, в музее не было никакой информации о константинопольском периоде жизни поэта (1855), когда он пытался организовать польские отряды для борьбы с царской Россией.