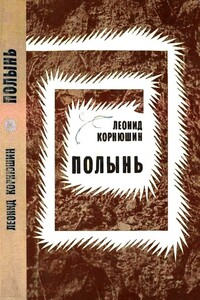Демьяновские жители | страница 30
Иннокентий Сергеевич, впрочем как и сестра его, до страсти любил старинные книги и вообще все антикварное и, пользуясь доверчивостью демьяновских жителей, таскал в свою нору все, что ни попадало, по его мнению, достойное в его руки.
Для полной характеристики, по народной молве, а ей нельзя не верить, Лючевский ходил в баню только под новый год. Такое правило объяснялось, по мнению тех, кто его знал, чрезмерной жадностью Иннокентия Сергеевича, да и сестры тоже. Как-никак, а баня требовала лишний расход мыла и уплаты за билет. Поэтому от Иннокентия Сергеевича исходил какой-то крепкий дух, так что, когда он проходил мимо кота, тот начинал фыркать. Картофельные очистки Лючевские никогда не выбрасывали, а пускали в дело. Иннокентий Сергеевич толок в ступе высушенные очистки, добавлял туда немножко муки и пек какие-то пресные лепешки. Сахару, крупы и хлеба бралось столько, сколько требовалось на день, с тем расчетом, чтобы не выйти из бюджета. На стене у них висела на шнурке тетрадка, куда тщательно вписывались каждодневные расходы — вплоть до копейки, где часто прибавлялось: «Сегодня на столько-то копеек разошлось больше. Впредь — не допускать!»
Отец их, когда был управляющим имения, нещадно драл мужиков, ненавидя их всеми фибрами своей узкой, застегнутой на все пуговицы души. Детям, по сведениям старых людей, от отца-управляющего досталось порядочное богатство — и золотишко, и драгоценные камешки, которое они берегли пуще глаза, несмотря на все выпавшие общественные потрясения, — так что шкатулка и сундуки остались нетронутыми. Об этих-то сундуках и ходила по Демьяновску молва. Питаясь хлебом с квасом, Лючевские для чего-то берегли сокровища. Демьяновцы не могли сего постигнуть своим умом и воображением. Широкая душа наша скорее потонет в нищенстве, чем возгорится желанием приобретательства.
Все привыкли видеть шмыгающую по городку и по базару черную, воронью фигуру Иннокентия Сергеевича, промышляющего самого дешевого пропитания. Дом их напоминал хаос старинной, давно заброшенной антикварной лавчонки, где все пришло в негодность, подгнило, обветшало и покрылось пылью забвения. Собственно, весь дом представлял собой большие длинные сени и тоже большую, перегороженную надвое шкафами комнату. В сенях висели какие-то тряпки и веники. В комнате громоздилось всего так много, что трудно было заключить, зачем и когда все это натаскали. Шкафы образовали стенку и упирались в самый потолок; были они разных эпох, так что нижний, может быть, восходил к Возрождению, а верхний к екатерининским временам, — все они, конечно, были весьма основательно продырявлены червем-короедом, и при дуновении из шкафов сыпалась желтая мука. В них тлело разное тряпье, давно непригодное к употреблению, но, однако ж, не выбрасываемое. Из этого-то тряпья — гузен штанов, остатков юбок и сарафанов — предприимчивый Иннокентий Сергеевич находил кое-что кроить и шить дельное. На столе, тоже отмеченном присутствием короеда, громоздилась всякая всячина: сковородки, обитый мраморный чернильный прибор, раковины, бронзовый лев без хвоста, попорченное временем Евангелие, малахитовая, с разбитой крышкой, шкатулка, разных величин наперстки, трубка величиной с полено, серебряная, бог знает каких времен, табакерка. На мелких, расшатанных, красного дерева шкафчиках и столиках десятилетиями лежали не переставляемые с места пилочки, ножички, футляры от очков, ножницы, спицы, испачканные мухами номера «Нивы», бронзовые статуэтки, какие-то колесики, фарфоровые собачки, кадило. На всем этом покоилась пыль времени, потому что редко когда прикасалась тряпка. Двигаться по комнате можно было с большой осторожностью, зигзагообразно, чтобы за что-то не задеть и не свалить на пол. Двойные рамы, оклеенные толстой желтой бумагой, никогда не выставлялись из окон Лючевских. Была только одна маленькая форточка, открываемая лишь днем и то по теплой погоде, — кроме воров брат с сестрою боялись сквозняков.