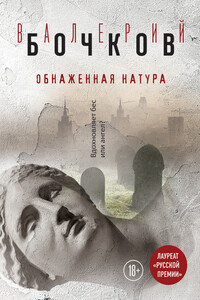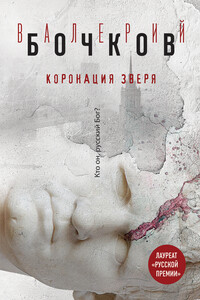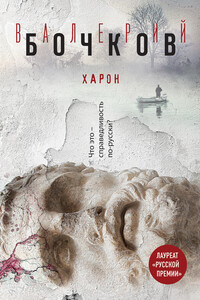Шесть тонн ванильного мороженого | страница 93
Оглядываюсь порой назад: да, конечно, не обошлось без некоторых, так сказать, издержек и досадных недоразумений. Что поделать, время такое было… Период начального накопления капитала – все по Марксу. Впрочем, победителей не судят, не так ли?
Разумеется, гениальный простофиля Любецкий прошляпил эту золотую возможность и остался на бобах. Впрочем, как и вся тогдашняя наука – уж если рукой махнули на оборонку, наивно было ожидать финансирования экспедиции к тунгусским колдунам!
Наивно? Не для Любецкого.
С невыносимым упрямством отвергал все предложения пристроиться в моей фирме каким-нибудь там консультантом или экспертом – что мне, жалко? Дела просто перли в гору! Просто сорил деньгами тогда, за ночь мог просадить состояние в казино, смешно сказать, увешал весь офис модным в ту пору Шемякиным, даже в сортирах золотые рамы, отчего ж другу детства-то не помочь?
Любецкий почти нищенствовал, кажется, даже голодал, но упрямился, юродствовал и тратил последние гроши на книги, на рассылку своих нелепых рукописей.
Промаялся так пару лет, я все ждал и ждал, когда же наконец образумится. Позвонит. Придет. В ноги кинется.
Так и не дождался…
Вы будете смеяться, но случилось нечто прямо противоположное, почти чудо: его заметили! Но, увы, увы, лишь на Западе. Здесь на него и его гештальт-анализы всем было по-прежнему плевать.
Более счастливого Любецкого я не видел.
Я даже опасался, что он спятил, ну так, слегка, в хорошем смысле этого слова. Хохотал, клоун, паясничал, распевая дурацкий романс, еще со школы изводивший меня. Голосил шутовским гортанным баритоном: «О-о-о, отчего ты отч-ч-ч-алила в ночь!»
И как же я ненавидел его тогда!
Этого порхающего, сияющего изнутри, изрыгающего бессмысленно-счастливые звуки Любецкого!
Как я ему завидовал!
И вот что омерзительнее всего – никакие деньги, никакая глупая мишура не могли убедить меня в собственной правоте, в собственном превосходстве. В неоспоримом главенстве моей модели вселенной, моего взгляда на мир, в беспрекословном величии моего почти божественного «я».
А ведь еще вчера я обожал, лелеял, почти любил его, в том непризнанном, жалком и нелепом состоянии, готов был поделиться последней коркой хлеба, рубашкой, чем еще? Мог битый час выслушивать его пьяное нытье пополам с психиатрической абракадаброй! Еще вчера!
Как это все вдруг переменилось.
Да, он начал получать заграничные гранты.
Пропадал в диких малярийных экспедициях где-то на экваторе, на Карибах. Возвращался до неприличия для русского человека загорелым, тряс линялыми русыми волосами, размахивал руками и пугал подвыпивших девиц гаитянской околесицей: умбанда, кимбанда, кандомбле. Или нечто созвучное.