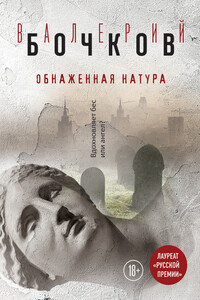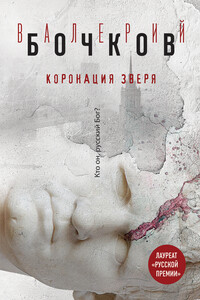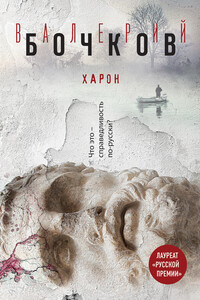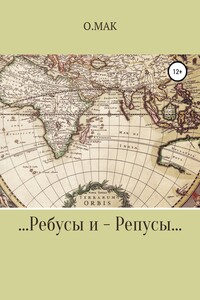Шесть тонн ванильного мороженого | страница 91
Почему-то потирая ладони, доплелся до гостиной. Упер лоб в ледяное стекло.
Выпуклое сонное небо, черное с оранжево-ржавым отсветом, плоский тусклый город. Смоляной загиб реки – мертвой, без отражений – слепеньким пунктиром повторяли желтые фонари набережной.
Что-то там, снаружи, впрочем, было не так.
Ах да! Гостиница. Не могу привыкнуть, что ее там нет.
Грязновато-белую линялую уродину снесли. Торчала лишь церквушка, что ютилась во дворе, да мусор по квадратному периметру фундамента. Теперь можно было видеть всю южную часть крепостной стены и кокетливо разукрашенную башню с часами. Приглядевшись, при желании даже рассмотреть время. У меня до сих пор единица: никаких тебе очков, кроме солнечных.
Холод от стекла заморозил настырный метроном в моем мозгу, сонное оцепенение прошло.
Я вдруг ощутил растущее чувство постыдного восторга, мелкое и гадкое. Мерзкое карликовое ликование, будто смерть Любецкого неким таинственным образом делала мое собственное существование более значимым, наполняла мою личность добротным, серьезным смыслом, выщелкивала мне какие-то призовые очки.
Вернулся в спальню. Разумеется, наступил на осколок – тут уж проснулся окончательно! Чертыхаясь, проковылял в душ, капая по паркету красным.
– Ты знаешь этот древний фокус с канарейкой? В клетке?
Наш последний разговор с Любецким я запомнил в мельчайших подробностях, особенно запомнились его неугомонные пальцы, в них скоро крутится то нож, то вилка, пальцы мелким галопом барабанят по скатерти, пробегают по нежно скроенному лицу, ударяют в воздух глухонемыми аккордами. Словно этими тайными знаками он подает какие-то секретные сигналы. Кому?
– Факир накрывает клетку с канарейкой платком. Дробь барабанов! Внимание! Невероятная минута! Платок прочь – ах! – клетка пуста. Публика в восторге. Маэстро, туш! – Гладкие ладошки Любецкого изображают рукоплескание, щеки выдувают цирковой марш. Ну так что в фокусе, на твой взгляд, самое главное?
Он уже изрядно пьян.
Очень жарко, очень накурено в этой стекляшке.
Любецкий выцеживает последние капли в свою рюмку. С грохотом ставит пустой графин в центр стола.
– Официант!
Сочный баритон совсем не подходит к его умильной, почти ангельской внешности – просто Боттичелли! «Красна девица!» – язвил мой мужественный папаша-генерал в наши школьные годы.
Впрочем, Любецкий мало изменился с тех пор, чуть, может, потускнел и обвис. Да и шутка ли – двадцать с лишним лет! Но все те же бледно-русые волосы с трогательными завитками у ушей, нежная шея с голубой жилкой. Отрадная живость глаз, правда, сменилась чем-то оловянным. Его нынешнего взгляда я не переношу.