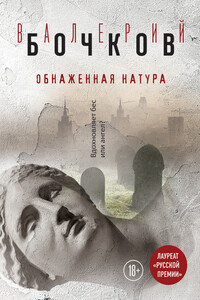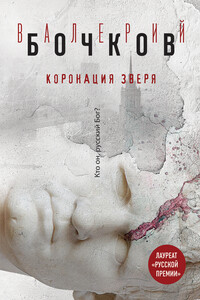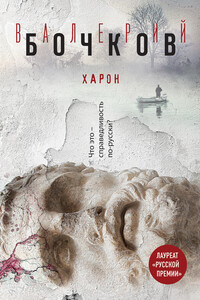Шесть тонн ванильного мороженого | страница 81
Тычет в стремительно мрачнеющую Дашу подрагивающий палец с объеденным ногтем.
– Кому твой доморощенный героизм нужен? Ну? Кому, кроме тебя?!
Это уже кричит, по морде пятна вовсю.
– Шляешься по своей чертовой Чечне-Абхазии-Уганде вместо того, чтобы…
Даша так никогда и не узнала, что она должна была делать вместо этого.
Всего через три часа он хмуро нянчил перебинтованную белым голову, уныло глядя в собственное отражение, сквозь которое кто-то с мерным перестуком сматывал назад мокрый безразличный Берлин.
В то же самое время Даша, брезгливым жестом ссыпав в мусорное ведро зеленые осколки и грязный ком бумажных салфеток, бурых от вина и мужниной крови, поставила крепкую точку на своем четвертом замужестве.
Миновали Табал, теперь по утесам вдоль реки.
Горы как-то вдруг придвинулись, близко, словно кто-то навел сбитый фокус. Мрачные складки ущелий, наверху все бело от снега, торжественная и строгая красота. Даже таксист не балагурил больше. Хотя, может, просто выдохся, иссяк. Лишь, ткнув рукой вправо, сказал:
– Джохал! Самый високий пик на Шандурский хребет! Више, чем даже на три километра.
Даша каждый раз лелеяла момент возвращения в горы.
Когда замираешь, и сердце спотыкается, и ощущаешь собственную нелепость, да и ненужность всей цивилизации, кичливой, громкой, бессмысленной и столь безнадежно жалкой перед этим бескрайним величием.
Даша, впитав до капли всю торжественную сладость, деловито принялась готовить аппаратуру: достала из баула старый «Никон», тяжелый, как утюг, ловко прищелкнув к нему новенький зум – сказка! С каким-то ультразвуковым мотором. На той неделе купила, ни разу еще не пробовала. Вытащила и остальную оптику в бархатистых черных чехлах: телевик 70—200, так, на всякий случай, фиш-ай – этот уж явно было ни к чему брать. Фильтры, аккумуляторы – все в порядке. Пристегнула ремень к камере, навела на пик, как его? – Ходжал? Нажала спуск.
Пейзажи Дашу не интересовали, так – фон, да и не умела она их снимать, если честно, тут особый глаз нужен. Не было у нее холодного терпения натуралиста, цепкого прищура живописца. Растаять в солнечном блике на острие травинки, умереть в лиловой тени тучи ползущей на луг, раствориться в молочном мареве тумана над тусклыми корнями лесной прогалины – нет, это все не ее, скучно.
Ее стихией было действие.
Она так и говорила на открытии лондонской выставки «Уганда: между небом и землей»: «Мне плевать, что вы там напишите, плевать. Я снимаю жизнь! Я ставлю диагноз! Но я не доктор и не врачую раны. Моя цель – сорвать ханжескую кисею и ткнуть обывательской мордой в боль, кровь, грязь! В страдания, голод и смерть. И нечего нос воротить, – да, воняет!»