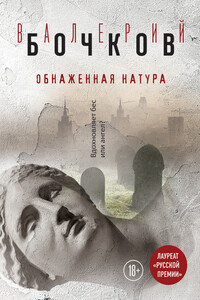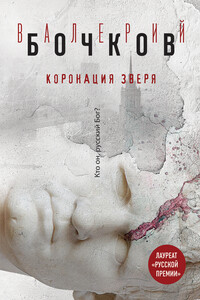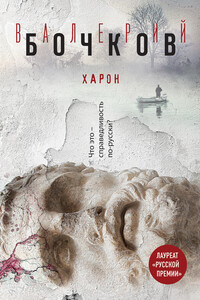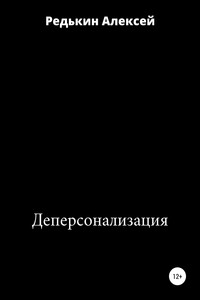Шесть тонн ванильного мороженого | страница 73
Миновав профессионально скорбную фигуру с лоснистым цилиндром в белых перчатках, очевидно, из погребальной конторы, я, безбожно скрипя паркетом, быстро зашагал по галерее в сторону раскрытых дверей в зал.
Я сразу увидел ее, едва войдя в душный сумрак, дрожащий и воняющий ванильными свечками и прелыми цветами. Там было людно, полукругом стояли в несколько рядов стулья, одинаковые, складные, тоже из похоронной конторы, отметил я, уже впившись глазами в массивный темно-вишневый гроб. Крышка была откинута, меня поразила внутренняя обивка – белоснежный атлас, словно это имело значение для того, кто был внутри. Среди цветов, в пышной пене кружев, тоже белых, почти свадебных, матово и страшно желтел острый восковой профиль. Я не мог оторваться от этого костистого маленького лица, от спекшихся в нитку серых губ, от фальшивого румянца на тугих скулах. Я завороженно разглядывал ее, постепенно проникаясь странным чувством, что от этой высохшей мертвой старухи в лакированном ящике исходит невероятное презрение не только ко мне – к этому-то я привык, – а ко всем, ко всему, что она оставила. К этим почтительно-скорбным людям, настороженно шуршащим черными одеждами, к пыльному лучу солнца на паркете, к пестрому от ласточек небу за стрельчатым окном, к уютному ворчанью океана где-то вдали. Словно она, эта мертвая старуха, знала некую важную тайну, о которой все мы даже не подозревали, продолжая с детской наивностью строить планы, прислушиваясь к щебету в синеве и важно полагая, что это знак чего-то очень хорошего.
К подиуму, убранному тяжелой материей в торжественных складках, выходили люди. Строго и грустно говорили, сочувственно обращаясь к сидящим, время от времени косясь на лакированный ящик. Скрипели стулья, белели скомканные платки, хотя никто не плакал. Смысл слов смутно доходил до меня, я не слушал. Джилл, моя бывшая, оказалась права – тетка раздавала деньги направо и налево, все выступающие представляли всевозможные фонды, конторы и общества благотворительного свойства. Совсем не хочется быть циником, но, похоже, я был единственным бескорыстным участником церемонии. Разумеется, не считая тетки.
Солнце угодило в витраж. На соседней стене, вспыхнув, заплясало легкомысленное разноцветье. Впереди, среди скучных затылков, я приметил знакомый кружевной воротник. Мне было видно аккуратное ухо с невзрачной, какой-то школьной серьгой, и персиковая щека.
Неожиданно после казенного бормотанья благотворителей зарокотал баритон, я даже вздрогнул. Говорил священник, сухой, с длинными мосластыми руками и жилистыми кистями. Указательный палец его был вложен в кожаную библию, тертую и мягкую на вид, другой ладонью он поглаживал книгу, будто лаская. Он говорил с мрачной тусклой страстью, покачиваясь большим телом вперед и чуть привставая на носки в ключевых фразах. После, раскрыв книгу, начал читать из Евангелия.