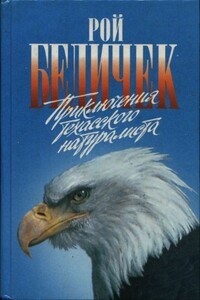Маски духа | страница 57
Он, конечно, странный, этот Дмитриев, но друг хороший. Едем мы как-то еще по Ленинграду, часов в двенадцать ночи. И вдруг ни с того ни с сего мне страшно захотелось выпить водки. Так бывает: не хотелось, не хотелось и вдруг захотелось. И что делать? А Дмитриев возьми да вспомни, что неподалеку живет одна из его любимых, которая ждет не дождется, когда он, наконец, заявится к ней на ночь глядя, чтобы, значит, совершить с ней обряд умопомрачения. И посему всегда держит наготове бутылку водки.
Ну, подрулили. Он меня на перекрестке выставил, как светофор, а сам пошел. Любимая как его увидела – сразу давай таять. Счастье подвалило. Так и вертится вокруг него – и улыбки мастерит, и глазами моргает, и зад колесом состроила. А он бутылку хвать – и бежать. Потому что друзья важнее.
Вот это настоящий поэт. А Кенжеев – он так не может. Он и бутылку выпьет, и от женщины не откажется. То есть не умеет сделать правильный выбор. Поэтому зря Евтушенко тревожится – Кенжеев абсолютно бессмысленный. Как осень.
Мы и не искали. Сидели себе на берегу Мойки, неподалеку от пушкинской квартиры, в маленьком ресторанчике и заедали водку супом. Заедали водку супом и вытрясали из себя остатки молодости, разбрызгивая по столу остроты. Бахыт, правда, немного погрустнел, что ему совершенно не свойственно от природы. Впрочем, восток – дело тонкое. Никогда не поймешь, отчего грустит человек, в котором танцуют огненную джигу казахский кумыс, канадский джин и русская водка. И тогда, чтобы хоть немного отвлечь Бахыта от грустных мыслей, мы с Виталиком посвятили ему лирический стих, призванный отразить всю глубину неприкаянного одиночества безлошадного азиата:
Сидим, значит, выпиваем. Друзей-поэтов помянули – Саню, Женьку. И вдруг Дмитриев говорит:
– А давай выпьем за Бахыта!
– За живых разве пьют? – засомневался я.
– А мы – не чокаясь, – нашелся Виталик.
– Вот суки! – отозвался Бахыт. – За водку будете сами платить.
Но тут к самому ресторанному крыльцу подошел катер. Мы степенно ступили на палубу и поплыли по Мойке, по Фонтанке и торжественно высадились на сушу у Фонтанного дома, где, оказывается, тоже жила Ахматова. Где она только не жила, эта Ахматова!
Рабинович попал в точку: я действительно когда-то знал Резо Габриадзе. Я даже был допущен в его тбилисскую мастерскую, где он чуть не свел меня с ума своими рассуждениями о Сталине. Вырезая ножом очередную куклу для своего театра марионеток, Резо изложил собственную теорию о том, что Сталин не был грузином. Вкратце это звучало так: