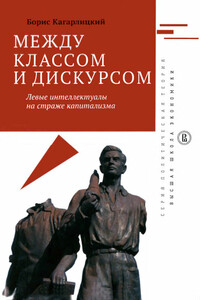Социальные истоки диктатуры и демократии. Роль помещика и крестьянина в создании современного мира | страница 13
Те, кто способствовали распространению аграрного капитализма и оказались главными победителями в борьбе против старого режима, происходили из сословия йоменов, но в еще большей мере из высших классов землевладельцев. Основными жертвами прогресса, как обычно, стали простые крестьяне. Так случилось не потому, что английские крестьяне были в особенности упрямы и консервативны, из чистого невежества и по глупости, как казалось их современникам, цепляясь за обычаи эпохи, предшествовавшей капитализму и индивидуализму. Верность старым привычкам, несомненно, сыграла свою роль; однако в этом случае, как и во многих других, рассматриваемых в данном исследовании, необходимо поставить вопрос, почему эти старые привычки сохранялись. Причину увидеть достаточно легко. В средневековой аграрной системе Англии, как и во многих других странах мира, каждое крестьянское владение состояло из нескольких узких полосок земли, беспорядочно расположенных среди наделов других крестьян в неогороженном, открытом поле. Поскольку после жатвы на полях пасли скот, все крестьяне, имевшие надел на одном поле, должны были собирать урожай в одно время, поэтому все работы в аграрном цикле нужно было согласовывать внутри общины. В этих условиях сохранялся определенный простор для частной инициативы,[8] но в основном требовалась кооперация, которая быстро превращалась в обычай, поскольку так проще всего было вести дела. Сезонная реорганизация пользования полосками земли иногда случалась, но была слишком хлопотной. Заинтересованность крестьян в общинной земле, которая служила дополнительным источником корма для скота и возможностью для сбора хвороста, очевидна. В целом английские крестьяне добились для себя сравнительно выгодного положения в рамках манориальных обычаев, и поэтому неудивительно, что они надеялись на защиту обычая и традиции как на дамбу, которая убережет их от надвигающегося капиталистического потока, едва ли сулившего им какую-то прибыль [Tawney, 1912, p. 126, 128, 130–132].
Но несмотря на помощь, периодически оказываемую ей со стороны монархии, эта дамба начала разрушаться. Или, если выражаться языком той эпохи, «овцы съели людей». Крестьян вытесняли с земли; как отдельные полоски пашни, так и общинная земля превращались в пастбища. Один пастух справлялся с целым стадом, которое паслось на участке земли, прежде кормившем многих людей [Ibid., p. 232, 237, 240–241, 257]. Точно оценить эти перемены не представляется возможным, но нет сомнения в их серьезности. И все же, как хладнокровно замечает Тони, течи, пробившие эту дамбу в XVI в., были всего лишь тонкими струйками по сравнению с потоком, хлынувшим после ее разрушения в ходе гражданской войны.