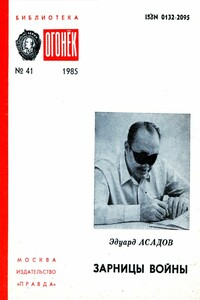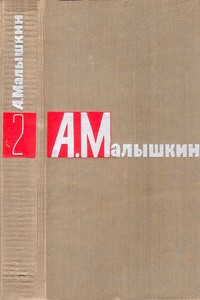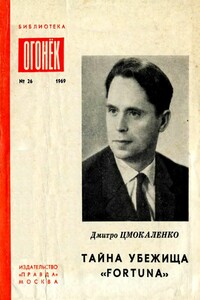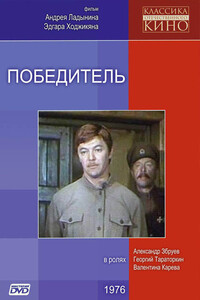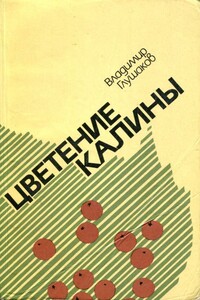Пока живы, пока не забылось | страница 29
Береза у нее на могиле еще в желтой и ржавой листве, а вяз облетел. Будет ли она рада вязу? Ведь вязы стояли под окном у нас в Воронеже, а она не любила воронежский дом, это я его любила как единственно что-то устойчивое, основательное в моей жизни, дом отца, хотя отец с нами и не жил, но он рос в этом доме, здесь прошла его юность, и мне все было интересно и важно — даже бабушкины сундуки на веранде, набитые старыми книгами и журналами и старыми выцветшими нарядами тети Оли, в честь которой названа я, — длиннейшие юбки, испанские черные кружева, туфли из белого атласа на тоненьком французском каблучке, шнурованные ботинки — почти до колен, веера, лорнеты, изношенные лайковые перчатки. Но вся эта мишура не имела цены, имели цену — в наших детских глазах — одни только книги, приложения к „Ниве“ и сама „Нива“ с ее царями и архиепископами, с войнами, с памятниками старины, с этнографическими зарисовками и усатыми генералами.
Сколько я прочитала тогда интересных вещей в этих сборниках „Нивы“, в приложениях, в старых, растрепанных, без конца и начала, пожелтевших томиках! Майнридовские „Водою по лесу“ — и Гоголь, его „Страшная месть“, его „Вечера на хуторе близ Диканьки“, „Записки сумасшедшего“, здесь же лермонтовский „Герой нашего времени“, и Диккенс, и многие, многие другие, неизвестные и забытые ныне книги, произведения забытых ныне авторов, я и сама уже не могу вспомнить их названия, но они были о жизни, они давали какое-то представление о том времени, которое было до нас, и это было в них самое главное.
Думала ли я тогда, где упокоится моя мама? И где — и как скоро — умрет Борис? И как будет мучиться в муках голода, умирая от рака, отец? Думала ли я, как будут бежать те проклятые четыре длиннейшие остановки — через Крымский мост до Второй Градской больницы, чтобы застать маму еще в живых, задыхающуюся, умирающую?
Как буду считать ее последние, предсмертные дыхания?
Я тогда ни о чем не задумывалась. Вот для этого человек и должен иметь две жизни, чтобы одну прожить спокойно, без треволнений, а вторую — в сознании своей ответственности, с чувством неповторимости происходящего, с исправленьем ошибок, с искупленьем вины…
Две жизни… А может быть, три? Тогда мы поймем и еще что-то важное, наиглавнейшее?
Никогда не забуду прелестную уличную сценку сразу после войны в Москве. Трамвай остановился у светофора, и я вижу часть улицы.
Молодая изящная загорелая милая женщина в выцветшей военной форме, с погонами сержанта, вся в орденах, а навстречу ей по той же самой дорожке, отведенной строителями — под дощатым козырьком и трубчатой оградой, — старшина, молодой, статный, бравый, с орденами. Дорожка узкая. Женщина сделала шаг влево, а старшина сделал шаг вправо — и они столкнулись лицом к лицу. Тогда женщина сделала шаг вправо, а старшина — влево, и они снова столкнулись. И подняли глаза друг на друга, увидели, как они оба молоды, здоровы, прекрасны — и улыбнулись, просто расцвели улыбками. И тогда старшина сильным, ловким движением приобнял свою встречную-„поперечную“ и легонечко перенес ее, освобождая себе дорогу. И они разошлись…