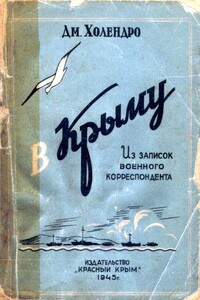Девчонка идет на войну | страница 98
Вдруг сразу стало совсем темно. И почему небо полетело куда-то вбок? И неужели это я кричу таким нечеловеческим страшным криком: «Нет! Нет! Нет!»
Я сижу в землянке. Я почему-то не умерла, хотя теперь уже навсегда потеряла половину себя.
Мы всегда были очень дружными с братом, но однажды сцепились из-за какого-то пустяка, и он ни за что не хотел уступить мне. Я схватила географию в очень твердом переплете и запустила ее прямо в спину Гешки. Книга с размаху ударила его по позвоночнику так, что он присел, изогнувшись от боли. А один раз он сгрыз мои кедровые орешки и я, разозлившись, закричала: «Ты вор!»
Гешка, я не возьму ни разу в жизни в рот этих проклятых орехов, только прости меня, Гешка! Я была глупой, скверной девчонкой, я не знала тогда, что может наступить момент, когда я без колебаний предложу свою жизнь, лишь бы ты был жив, Гешка!
«И все же не надо, не надо тужить!» Нет, я не тужу, Гешка. Я просто не могу больше жить.
Как же это? Гешки не стало в январе, а я в феврале получила от него письмо, которое начиналось озорным предупреждением о том, чтобы я с ним не фамильярничала, а кончалось такой болью, что я вдруг увидела тогда мысленно брата постаревшим и с седыми висками. А его уже тогда не было. Уже тогда не было! Не-бы-ло! А я продолжала писать ему письма.
Я легла на койку, закрыла глаза. Хорошо бы было уснуть, а проснувшись, узнать, что это неправда. Или бы забыть все начисто, будто нет у меня никого на свете.
А папа? Знает ли он об этом? Где он сейчас?
Я уткнула лицо в подушку, зажимая рот, чтобы не орать. И вдруг чья-то тяжелая рука легла мне на плечо. Я подняла голову. Рядом стоял Злодей.
— Что тебе надо? — спросила я.
— Чего ты сидишь тут в темноте? — спросил он сердито.
— Уходи!
— Нечего тебе сидеть тут одной, — сказал он настойчиво. — Пойдем ко мне.
На меня напало какое-то отупение. Ничего не соображая, я поплелась за Злодеем. Я даже рада была подчиниться чужой воле, только бы не оставаться со своими страшными думами.
Ярченко привел меня в моторную и усадил на чурбак. Я сидела, опустив голову на руки. Он стал возиться с электрическим утюгом.
— Перегорел, — проворчал он. Помолчав немного, спросил:
— У тебя больше никого нет?
— Отец, — ответила я, едва уловив суть вопроса.
Злодей отложил утюг, прошел из угла в угол и остановился передо мной.
— А у меня никого нет, — сказал он и снова вернулся к своему утюгу.
С полчаса мы молчали.
— У меня отец был инвалид. Отступить не смогли. Ну, он остался в селе, был связным у партизан. За это всех, даже бабку семидесятилетнюю, расстреляли. Младшему братишке тринадцать лет было. Я любил его. Бывало, залезу в сад и груш ему принесу. Груши он любил.