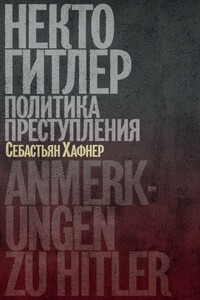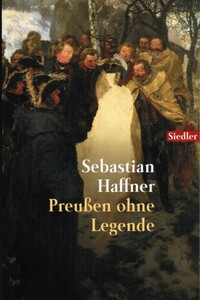История одного немца. Частный человек против тысячелетнего рейха | страница 79
Это мероприятие в ближайшие дни было дополнено другими (некоторые из них были впоследствии смягчены): всем «арийским» предприятиям надлежало уволить служащих евреев. Затем это же предписали еврейским предприятиям. Еврейские предприятия, закрытые во время бойкота, должны выплатить своим «арийским» служащим зарплату. Еврейские директора фирм должны были убраться и передать руководство «арийцам». И так далее.
Одновременно начался большой «просветительский» поход против евреев. На собраниях, в листовках, плакатах и брошюрах немцев принялись просвещать относительно того, что они до сих пор заблуждались, если считали евреев людьми. Евреи— «недочеловеки», род зверей, но со страшными особенностями бесов. Какие выводы стоило из этого делать, покуда не говорилось. Однако повсюду уже гремело призывом к бойне: «Juda, verrecke!»>14 Руководителем бойкота стал человек, чье имя большинство немцев услышали тогда в первый раз — Юлиус Штрайхер>137.
Все это вызвало у немцев то, чего от них по прошествии первых четырех недель нацистского господства трудно было ожидать: широко распространившийся ужас. Неодобрительный ропот, подавленный, но все же внятный, пробежал по стране. Нацисты весьма тонко и точно заметили, что здесь несколько поспешили и перегнули палку. После 1 апреля некоторые мероприятия отменили, но не прежде, чем ужас охватил всю страну. Сегодня мы знаем, что из своих истинных намерений они отложили на потом.
Однако самым странным и обескураживающим, если оставить в стороне испуг немцев, было то, что эта первая широковещательная демонстрация нового людоедского образа мыслей во всей Германии породила целый вал споров и разговоров, однако не об антисемитах, как можно было бы предположить, но о «еврейском вопросе». Трюк, который нацистам удался и во многих других «вопросах», а также на международной арене: публично угрожая кому-нибудь смертью—стране, народу, группе людей,—они устраивали так, что обсуждалось, то есть подвергалось сомнению, не их (нацистов) право на чужую жизнь, а право на жизнь тех, кому они угрожали.
Каждый почувствовал, что он вправе и обязан обзавестись собственным мнением о евреях и высказать его. Принялись делать тонкие различия между «приличными» евреями: если кто-нибудь как бы в оправдание евреям (в оправдание? отчего? почему?) принимался ссылаться на их успехи в науках и ис-
кусстве, тут же кто-нибудь как раз это и ставил евреям в вину: дескать, они наводнили науку, искусство, медицину Германии ««чужеродным» духом. Очень скоро сделалось обычным и популярным мнение: то, что у евреев чаще всего престижные, культурные профессии, — это их преступление или по меньшей мере бестактность. Защитникам евреев с недоумением сообщали, какой высокий процент евреев среди врачей, адвокатов, журналистов и т. п.; полюбили трактовать «еврейский вопрос» с помощью процентов. Исследовали проблему: не слишком ли высок процент евреев среди членов коммунистической партии Германии и не слишком ли низок среди погибших в годы мировой войны? (В самом деле, вот это последнее суждение мне довелось услышать из уст доктора наук, человека, принадлежащего к «образованному сословию». Совершенно серьезно, предельно серьезно, он доказывал мне, что 12 000 погибших в мировую войну немецких евреев — меньшая удельная часть от общего числа евреев Германии, если сравнить с соотношением павших в войне «арийцев» к общему их числу — отсюда он сделал вывод об известной «оправданности» нацистского антисемитизма.)