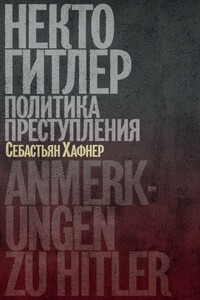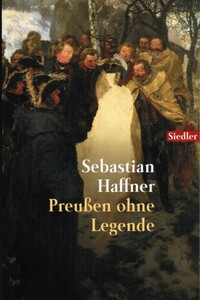История одного немца. Частный человек против тысячелетнего рейха | страница 77
И как бы ни было это странно, но все же придется признать, что как раз механическое, автоматически продолжавшееся течение ежедневной жизни и мешало проявиться сильной, живой реакции, протесту против чудовищного зла. Я уже рассказал, как трусость и предательство политиков помешали военизированным соединениям их партий оказать действенное сопротивление нацистам. Все-таки остается открытым вопрос: почему даже в этом случае то там, то здесь спонтанно и неорганизованно против нацистского бреда не протестовали отдельные нормальные люди, защищаясь если не против всего в целом, то, по крайней мере, против частных несправедливостей, против гнусных дел, творившихся рядом с ними? (Я прекрасно понимаю, что этот вопрос, больше похожий на упрек, не исключает и меня.)
Против спонтанного, естественного сопротивления работал неостановленный механизм повседневной, рутинной жизни. Наверное, и революции, и вся история Европы были бы иными, если бы люди сегодня, как в древних Афинах, были самостоятельными личностями и поддерживали связь с общественным, государственным делом, если бы они не были так безнадежно и бесповоротно встроены в свою профессию, в свой ежедневный распорядок, не были такими, зависимыми от тысячи мелочей, деталями не контролируемого ими механизма, скользящими по накатанным рельсам, беспомощными, случись им сойти с рельс! Только повседневная рутина является основой безопасности и сохранения жизни — вне этой рутины начинаются джунгли. Каждый европеец XX века чувствует это со смутным страхом. Отсюда его нерешительность, когда нужно предпринять что-то, что может сбить его с накатанного пути,—что-то смелое, не повседневное, исходящее от него самого. В этом и заключается возможность таких чудовищных катастроф современной цивилизации, как господство нацизма в Германии.
Конечно, я был в ярости в марте 1933 года. Конечно, тогда я пугал своих родителей самыми нелепыми планами: уволиться с государственной службы; эмигрировать; демонстративно перейти в иудаизм. Но высказыванием этих намерений каждый раз все и заканчивалось. Отец, опираясь на свой богатый, хотя и не покрывающий современные события, опыт жизни с 1870 по 1933 год, успокаивал меня, дедраматизировал ситуацию, тихонько посмеивался над моим пафосом. Я прислушивался к его мнению. Я привык к его авторитету, а в своем не был еще уверен. К тому же спокойный скепсис всегда убеждал меня больше, чем радикальный пафос. Поэтому мне потребовалось время, чтобы удостовериться: в этом случае мое непосредственное юношеское инстинктивное ощущение вернее житейской мудрости моего отца. Ибо есть вещи, против которых спокойный скепсис бессилен. Тогда я был еще слишком робок, чтобы сделать из своих чувств логические выводы.