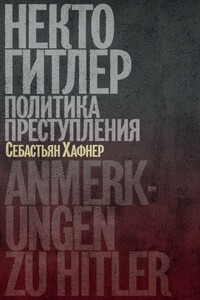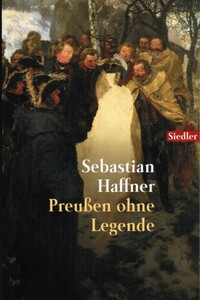История одного немца. Частный человек против тысячелетнего рейха | страница 113
Немногие из них остались верны своему знамени и после всех поражений не уставали предвещать неминуемую катастрофу с месяца на месяц, потом с года на год. Эта позиция, надо признать, понемногу приобрела черты странного величия, некую масштабность, но также и причудливые, едва ли не гротескные черты. Комично то, что эти люди, пережив массу чудовищных разочарований, окажутся правыми. Я прямо-таки вижу как после падения нацизма они обходят всех своих знакомых и каждому напоминают, что они ведь только об этом и говорили. Конечно, до той далекой поры они станут трагикомическими фигурами. Есть такой способ остаться правым — позорный способ, он только способствует прославлению противника. Вспомним о Людовике XVIII>185.
Второй опасностью было озлобление — мазохистское погружение в ненависть, страдание и безграничный пессимизм. Это — естественнейшая немецкая реакция на поражение. Любому из немцев в тяжелые часы его частной или общенациональной жизни приходилось бороться с этим искушением: раз и навсегда предаться отчаянию, с вялым равнодушием, от которого недалеко до согласия, отдать мир и себя в лапы дьяволу; с упрямством и озлоблением совершить моральное самоубийство.
Я жить устал, я жизнью этой сыт И зол на то, что свет еще стоит>1”>6.
Выглядит очень героически: отталкивать любое утешение — и не замечать, что в этом-то и заключается самое ядовитое, опасное и греховное утешение. Извращенное сладострастие самоуничижения, вагнерианское похотливое упоение смертью и гибелью мира — это как раз и есть величайшее утешение, которое предлагают проигравшим, если им не хватает сил нести свое поражение как поражение. Я осмелюсь предсказать, что таким и будет главное, основное состояние умов в Германии после проигранной нацистами войны—дикий, капризный вой ненормального дитяти, для которого потеря куклы равняется гибели мироздания. (Многое из этого уже было в поведении немцев после 1918 года.)
В1933 году немногое из того, что творилось в душах побежденного большинства, вышло наружу в «общественную^», так сказать, сферу — уже хотя бы потому, что официально, «общественно», никто ведь не потерпел поражение. Официально по всей Германии гремели всеобщие праздники, подъем, «освобождение», «избавление», «хайль» и опьяняющее единство, так что страданию приходилось держать рот на замке. И все же после 1933 года типичное немецкое ощущение поражения было очень частым явлением; я сталкивался с таким количеством индивидуальных случаев подобного рода, что полагаю: их не один миллион.