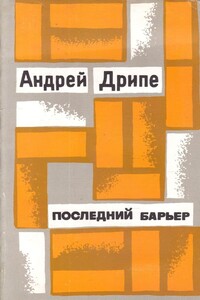Не переводя дыхания | страница 58
Он положил письмо на столик, и проводник, который стлал постель, спросил:
— Прикажите отправить?
Штрем ничего не ответил. А оставшись один, он почему-то заклеил конверт и тщательно его порвал. Клочья он кинул в окно. Перед ним был все тот же бесконечный лес. Он опустил штору и забылся.
Подъезжая к Варшаве, он вдруг взволновался: перед ним добродушно лоснилась физиономия Краузе, Штрема помутило Он не хочет ехать в Берлин! Он пересчитал деньги: у него было семьсот долларов. Он вылез в Варшаве. В тот вечер он снова много пил. Потом он очутился с какой-то женщиной. Она ему говорила по-немецки:
— Дай доллар!
Он дал ей два и попросил:
— Только не раздевайся.
Она лепетала: «Коханый…» Он зевнул и замер. Потом было утро. Он взял билет в Вену. Кто-то неотвязно спрашивал: «Какая это станция? Какая это станция?» К вечеру зарядил дождь, и грустно мелькали платформы, в которых отсвечивали фонари. Мелькали и люди в различных формах: поляки, чехи, австрийцы. Таможенники залезали в чемоданы. Штрем морщился: у них были грязные руки. Каждый раз с удивлением он глядел на свои вещи: на аккуратно сложенные рубашки, на книги, на папки с пронумерованными бумагами. Он никак не мог себе представить, что все это было его жизнью. Зачем он так старался жить? Неужели чтобы теперь бежать неизвестно куда?
Колеса продолжали свой несмолкаемый рассказ. В их поспешности была поспешность людей. Какая-то дама торопилась в Зальцбург: ее дочь была при смерти. Она доставала из сумочки носовой платок, и оттуда выглядывала страшная телеграмма. Она знала, куда она спешит, она искала одного: слабого дыханья, отсвета жизни в глазах, которые уже покрывались мутью. Колеса твердили: «успею, не успею». Другим колеса твердили другое: они сулили удачные сделки, работу, веселые каникулы, кроны, злоты, шиллинги, поцелуи. Но Штрему они говорили одно: «мы едем, мы едем, мы едем…»
Из Вены он решил ехать в Париж. Это произошло внезапно: мелькнуло название города и какое-то смутное воспоминание. Штрем был в Париже много лет назад. Он вспомнил ярмарку на большой площади: глаза выедал белый жестокий свет, тянулась в ларьке тягучая нуга, а огромная карусель кружилась до одурения. Он сказал носильщику:
— В Париж.
Снова зарябили станции. В буфетах пахло сосисками и солодом. Надрывался мальчик с газетами. Женщина мяла платочек и кричала: «Пиши!» Напротив Штрема сидел человек в пестрой кепке. Он мучительно морщился и хватался рукой за щеку, а глаза у него были пустые от несчастья. Может быть, у него болел зуб? Или он припоминал свое прошлое? Он вылез в Цюрихе, и Штрем раздраженно крикнул ему: