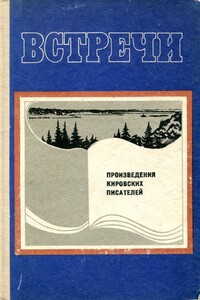Не переводя дыхания | страница 49
Иван Никитыч рассказал Валуеву о всех своих злоключениях. Тот слушал и ругался: «Ух, сволочи, бюрократы паршивые!..» Потом он сказал: «Шестого я в Москву еду, значит вместе поедем».
Когда Лясс вошел со своим проектом в кабинет человека, лицо которого он прежде знал по портретам, он оробел, как школьник. Он начал бубнить о том, что Северный край заслуживает внимания, что бедность природы — понятие относительное, что нельзя опасаться смелых проектов. Он думал: сейчас остановит, скажет: «Бред». Но вместо этого он услышал: «Товарищ, говорите по существу, как вы представляете себе это продвижение пшеницы?». Тогда Лясс сразу оживился. Он забыл, кто перед ним. Он только спросил: «Сколько вы мне времени даете?» — «Да вот через час заседание». Лясс, однако, проговорил два часа. Он изложил все свои опыты. Сто восемьдесят морозных дней. Созревание невозможно. Пшеницу необходимо яровизовать. Семена пускаются в рост до сева. Вопрос влажности и температуры. Яровизация продолжается тридцать пять — пятьдесят дней. Все это очень просто. За пшеницей смогут последовать и другие культуры. В районе Архангельска легко разводить даже арбузы. Торфяные болота? Разумеется. Но их легко осушить. Не требуется наносить землю или песок. Примешивают известь и минеральные удобрения. Северный край превращается в черноземную область. Наконец на 65-м градусе можно разводить абсолютно все: яблоки, даже шелковичные деревья. Он кончил. Глаза ботаника, бывшего золотоискателя и зверолова, встретились с глазами человека, который должен знать все: рост пшеницы, процент кремния в чугуне, профиль дорог, количество выпускаемых автомобилей и программу средних школ, постройку яслей, борьбу с саранчой, осушение болот и ирригацию пустынь, крепость хорошей стали и слабость обыкновенного человеческого сердца. Лясс жадно заглянул в эти глаза, заглянул и улыбнулся: он понял, что сегодня его мечта сбылась — пшеница двинулась на север.
Лясс работал день и ночь. Проект стал наполовину действительностью. Прошлой осенью 4 октября яровизованная пшеница доспела. Лясс продолжал опыты над различными сортами для яровизации. Путем скрещивания он создал новый сорт и окрестил его «победа». Он знал: в зоне вечной мерзлоты будут расти помидоры, дыни и малина.
Когда выпадает у него свободный час, он берет роман. Романы он читает по-своему: как чужие дневники. Вот ему рассказали еще одну жизнь. Он свято верит в существование всех этих героев, и когда Лидия Николаевна ему как то сказала: «Ведь никакого Давыдова и не было — просто это Шолохов придумал», он зацыкал на нее: «Ну, ну, рассказывайте! Такое нельзя выдумать. А потом, зачем выдумывать, если на самом деле что ни человек, то роман?» Но после этого разговора он стал относиться к Лидии Николаевне с легкой опаской. Вот он как то пошел в театр. Лидия Николаевна играла женщину-комиссара. Она стреляла, потом ее убивали. После он спросил ее: «Вы что же, воевали с белыми?» Она рассмеялась: «Да что вы, я ведь тогда девчонкой была». Лясс призадумался: откуда же она знает, что такая баба должна переживать? Лидия Николаевна показалась ему способной на ложь, а лжи он не выносил. Потому она и Шолохова подозревает. Но увидев глаза Лидии Николаевны, когда она слушала его рассуждения об яровизации, он успокоился: девчонка, не зря он ее в Мишку произвел… Вероятно поэтому никогда Иван Никитам не мог почувствовать в Лидии Николаевне женщину: она была для него или ребенком, или актрисой. Когда Ксюша как-то, вздохнув, сказала: «Вот женились бы вы на Лидии Николаевне. Чего зря одинокому жить», он расхохотался: «Ну и придумала! Как же на ней можно жениться? Что это тебе — баба? Это актриса. У них свои штуки. Представляют они, вот что…» При всем этом он успел привязаться к Лидии Николаевне, и каждый раз, когда она приходила, он встречал ее таким радостным криком, что немедленно все псы, даже сонный Байбак, начинали в восхищении лаять.