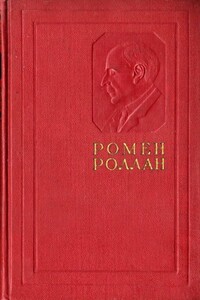Николка Персик | страница 68
- Поп, передохни. Все, что ты говоришь, прекрасно. Но соловья баснями не кормят. Ныне, когда душа моя готова к отъезду, я хотел бы по крайней мере выпить на прощанье. Друзья, бутылку!
Ах, молодцы! Хоть жили по завету Божьему, оставались они истыми бургонцами, и верно они угадали мое последнее желанье! Вместо одной бутылки они притащили целых три: шабли, пуи, иранси. Из окна моего, точно с лодки, готовой к отплытью, я кинул веревку. Поленичек подвязал старую корзинку, и я из последних сил втянул последних своих друзей.
Снова упал я на солому; все удалились, но я чувствовал себя уже менее одиноким. Не попытаюсь вам рассказать, как прошли следующие за этим часы. Странное дело, я никак не могу их найти. Верно кто-нибудь под шумок своровал штучек восемь, а не то - десяток. Знаю только, что я был поглощен обширной беседой со святой троицей бутылок; и ничего не помню из того, что говорилось. Теряю Николку Персика: куда он мог улизнуть? Около полночи я снова вижу себя. Сижу в своем саду, распластав зад на грядке земляники, сочной, влажной, свежей, и гляжу на небо сквозь ветки маленькой сливы. Сколько огней там в вышине, сколько теней здесь внизу! Луна мне казала рожки. Поодаль видел я ворох старых лоз виноградных, черных, кривых и когтистых, как змеи, кишели они и, чудовищно корчась, за мной наблюдали. Но кто объяснит мне, что я здесь делаю?.. Кажется мне (все перепуталось в мыслях моих слишком пышных), что сказал я себе:
- Встань, христианин. Император Римский не должен, Николка, в постели своей умирать. В бутылках пусто. Больше нечего делать нам здесь! Пойдем просвещать капусту!
Мне кажется тоже, что я собирался нарвать чесноку, ибо он, говорят, очумляет чуму. Помню ясно лишь то, что, когда я ногу поставил (и тут же плюхнулся) на мать-землю сырую, меня охватило внезапно очарование ночи. Небо, словно огромный орешник, круглый и темный, надо мной расширялось. На ветвях его тысячи тысяч плодов повисло. Колыхаясь мягко, блистая как яблоки, звезды зрели в сумраке теплом. Плоды моего ветрограда казались мне звездами. Все наклонялось ко мне, чтобы видеть меня. Чувствовал я, что тысяча глаз за мной следит. Шушуканье, смех пробегали в земляничных кустиках. На сучке надо мной груша маленькая, краснощекая и золотистая, голосом тонким, светлым и сладким мне напевала:
Вкоренись, вкоренись,
Человечек седой!
Чтобы в рай вознестись,
За меня зацепись,
стань ползучей лозой.
Вкоренись, вкоренись,