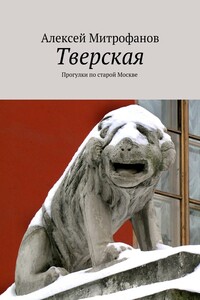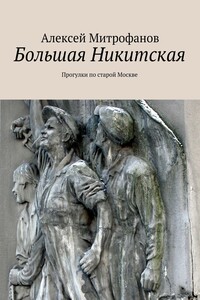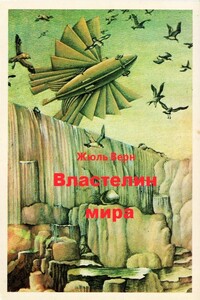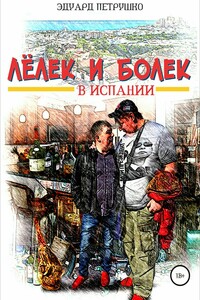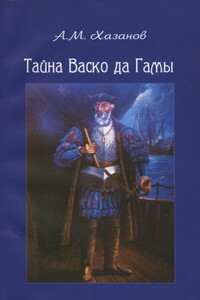Пречистенка. Прогулки по старой Москве | страница 73
Как описать мне его?»
Выходит, несмотря на всю экспрессию, всю яркость, писатель признается — не то, дескать, слабовато.
Да, внешность, мягко говоря, экстравагантная и, в общем-то, предполагающая всевозможные неординарные поступки, которые, конечно же, имели место быть.
Правда, один из поливановцев, В. Иков, дулся на Андрея Белого и обвинял его в предвзятости: «Это в значительной мере шарж, почти гениальный, но все же шарж. Впрочем, иной цели и не ставил себе автор в своих воспоминаниях, кроме как дать такое памфлетно-гротескное отражение мира, в котором он жил и с которым был до конца неразрывно связан, несмотря на все стремление вырваться из его объятий.
Нельзя было бы отрицать права автора видеть и показывать жизнь и действительность в кривом зеркале, если бы А. Белый не делал одновременно попытки противопоставить — задним числом — себя своему былому окружению и если бы к его восприятию прошлого не примешивалось нот личной обиды и раздражения некогда обиженного и непонятого средой правдоискателя…
У меня нет ни малейшей охоты состязаться с А. Белым, как нет и его дара, воспринятого им от Гоголя, видеть всюду лишь свиные рыла…
Моя задача много скромнее. Я действительно поднимаю «признательную чашу» в честь некоторых наставников своих и именно так, как требует Пушкин, «не помня зла»».
И далее Иков дает свою характеристику любимому директору и педагогу: «Автор широко распространенных в то время превосходных учебников русского языка (грамматики и хрестоматий), переводчик (Расина, Мольера), исследователь-литературовед (книга о Жуковском, работы о Пушкине) — Лев Иванович был прежде всего и больше всего несравненным мастером преподавания с исключительным даром живого слова, прирожденным педагогом, поэтом, магом и волшебником труднейшего из искусств — искусства передачи ученикам интереса и любви к преподаваемой им дисциплине, будь то русский язык, русская литература или латынь (которую мы проходили у него в младших классах). В его руках это был уже не «предмет», а наука, и к ней он умело, доходчиво и интересно приобщал нас… Малыши и подростки боялись Л.И. чуть ли не до озноба и истерики, и вместе с тем питали к нему неизъяснимую симпатию. Входя в возраст, мы начинали ценить и понимать этого человека за его душевное благородство, мягкость и чуткость, за огромный ум, за талант истинного наставника — учителя — друга…
Вспоминаю с глубоким волнением Льва Николаевича. Он любил Малый театр, где в те годы подвизались такие единственные неповторимые артисты, как Ермолова, Федотова, Лешковская, Ленский, Садовские, Горев, Южин и другие «старшие и младшие» русской сцены. Он любил этот театр, как все москвичи, трепетной, ревнивой любовью и заряжал ею старшеклассников. Но Л. И. не был пассивным зрителем, хотя бы и высококультурным и исключительно чутким ценителем. В нем самом, несомненно, жил актер и режиссер, изобретательный постановщик и организатор театрального действа… Подобно нашему Суворову, Лев Иванович не любил «незнаек», «немогузнаек», тупых учеников, которые, ни о чем не думая, ничем всерьез не интересуясь, ни во что не вникая, «готовили» добросовестные уроки и отвечали ему слово в слово без запинки по учебнику. Он холодно слушал ответ, ставил отметку и терял всякий интерес к такому пай-мальчику.