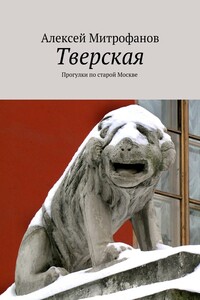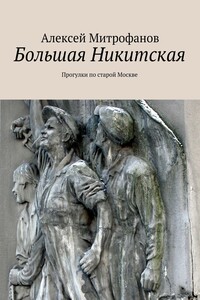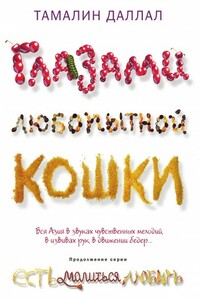Пречистенка. Прогулки по старой Москве | страница 56
После чая Софья Захаровна сказала:
— Борис Леонидович, пожалуйста, вы хотели прочесть свои стихи.
Пастернак немного выпрямился, чуть откинулся на спинку стула и начал читать:
Не скажу, чтобы стихи мне очень понравились, а слова «свет брюзжал до зари» смутили нас обоих с М.А. (то бишь с Михаилом Булгаковым — А.М.). Мы даже решили, что ослышались. Зато внешность поэта произвела на меня впечатление: было что-то восточно-экстатическое во всем его облике, в темных без блеска глазах, в глуховатом голосе. Ему, вдохновенному арабу, подходило бы, читая, слегка раскачиваться и перебирать четки… Но сидел он прямо, и четок у него не было…»
В то время никого не удивляло, что в музее живут люди и, тем более, что здесь организуются кружки явно не профильные, если вспомнить, что Толстой был все-таки не живописцем, а писателем.
* * *
Впрочем, среди истинных ценителей московской старины здание славится не столько тем, что здесь — Музей Толстого или же своими внешними достоинствами (а они, между тем, высоки), сколько памятником Льву Толстому, уютно упрятанному за решеткой дворика за этим домом.
Памятник, между тем, весьма своеобразный. Борода кучерявится, ладони засунуты за широкий пояс, большие пальцы рук надавливают на живот. Ног нет, их как будто поленились сделать. Странный, вообще говоря, памятник.
Впрочем, история его еще более причудлива.
Скульптор Сергей Дмитриевич Меркуров начал этот монумент еще в 1910 году. Сразу же после смерти Льва Толстого он приехал в печально знаменитый станционный домик и снял с Льва Николаевича посмертную маску (а также слепки с его рук). Тогда же у него возникла мысль о памятнике. И в 1913 году, к 85-летию со дня рождения писателя, была готова статуя из розового финляндского гранита. Тот гранит Меркуров лично ездил выбирать в страну Суоми.
Сергей Дмитриевич был доволен памятником. Он писал: «Русская жизнь в те времена представлялась мне как большая степь, местами покрытая курганами. На курганах стояли большие каменные „бабы“ — из гранита — Пушкин, Толстой, Достоевский и другие. И время от времени этот, казалось, мертвый пейзаж потрясался грозой, громами, подземными толчками и землетрясениями. Я вспомнил слова Толстого: „Вот почему грядущая революция будет в России…“ А на кургане в бескрайней степи стояла каменная „баба“. От этого образа я не мог освободиться».