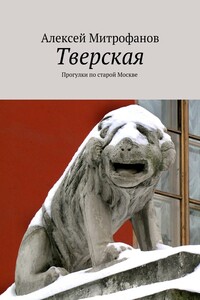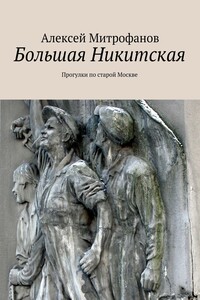Пречистенка. Прогулки по старой Москве | страница 33
Правда, сути это не меняло. Здесь все так же обсуждали всяческие «прогрессивные» труды, гуляли в переменах (один из гимназистов вспоминал: «Перед фасадом был большой двор, частично обрамленный деревьями. На каждой перемене мы обязательно должны были выходить во двор: размяться, подышать воздухом»), учились («Преподавание, в частности обучение иностранным языкам, было поставлено хорошо. Кроме французского и немецкого… в школе занимались латинским языком, а в четвертом классе — и древнецерковнославянским») и играли в театре.
В гимназии Кирпичниковой был один из лучших гимназических театров города. Тем более, кроме детей революционных, тут учились дети театральные — юные потомки Лужского, Качалова и Москвина.
Владимир Шверубович (сын Качалова) писал в своих воспоминаниях: «Это была традиция — каждый год один из классов (а иногда и два класса) ставил какую-нибудь классическую пьесу. Играли „Недоросля“, „Ревизора“, „Горе от ума“. Теперь был решен „Борис Годунов“».
Собственно, Владимир поначалу должен был играть эпизодические роли — Курбского и пристава в корчме. Но незадолго до генеральной репетиции актер, игравший Годунова, заболел, и роль решили передать качаловскому сыну.
«Я умолял освободить меня, не идти на риск провала всего спектакля, но собрание было непреклонно, оно было уверено, что я просто ломаюсь, „как пьяница пред чаркою вина“, и мне пришлось согласиться — не портить же двум классам праздник», — жаловался Шверубович.
Революционные события не могли не сказаться на жизни школы. Один из гимназистов, А. Февральский, вспоминал об этом времени: «Занятия почти не нарушались — шли своим порядком и, пожалуй, более интенсивно: мы, ученики последнего, восьмого класса, были так увлечены изучением русской литературы второй половины XIX века и дискуссиями, проводимыми учительницей, что просили увеличить количество уроков. Но при этом школьное самоуправление, введенное в предыдущем учебном году, широко развернулось и приняло своеобразные формы: возникли не только „совет старшин“, но даже „парламент“ и „совет министров“; меня выбрали „министром народного просвещения“ и „товарищем председателя парламента“. Все это, конечно, звучит смешно, но тем не менее для нас деятельность этих школьных организаций со столь высокими наименованиями была первым опытом общественной работы».
Правда, были и другие взгляды на события. И упомянутый уже Владимир Шверубович писал об осени 1917 года: «Начались занятия в гимназии, репетиции и спектакли в театре, все по внешнему виду обычно. И в гимназии, и в театре шли яростные споры. Спорили главным образом о том, как пойдет дальше жизнь страны. Что большевики пришли к власти навсегда, что они сумеют ее создать и осуществить, — в это в нашем кругу мало кто верил».