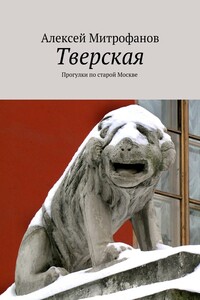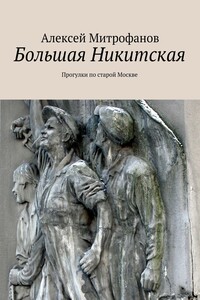Пречистенка. Прогулки по старой Москве | страница 13
Цветаев тогда уже знал, что еще в двадцатые годы девятнадцатого века в знаменитом салоне Зинаиды Волконской возникла идея — организовать при Московском университете так называемый «Эстетический музей». Да только на затею денег не хватило. К тому же декабрьские события 1825 года сильно подорвали общественную жизнь страны.
Но почему бы не вернуться к этому проекту?
Однако же это дело далекого будущего. Цветаев делает научную карьеру: защищает докторскую диссертацию и получает приглашение в Московский университет преподавать латынь.
Федор Корш, филолог и преподаватель университета, пишет Ивану Владимировичу:
«Вы были бы тем более желательным сподвижником, что вы знаете хорошо именно ту отрасль латинской филологии, в которой мы… слабоваты — историю латинского языка. Вы явились бы к нам во всеоружии современной науки».
Цветаев принимает приглашение. Тем более университет в качестве бонуса предложил молодому профессору самое желанное — многочисленные научные командировки в страны Западной Европы.
* * *
Но потихоньку господин Цветаев подступается к созданию музея. Ходит по меценатам, выпрашивает пожертвования. Те, кстати, отнюдь не стремятся отдать свои деньги. Иван Владимирович сетует: «Отказал Лев Готье, очень богатый торговец в Москве железом… Отказал Василий Алексеевич Хлудов, человек огромного состояния и питомец Московского университета. Отказали Савва и Сергей Тимофеевичи Морозовы. Отказали Морозовы-Викуловичи… Отказала Варвара Алексеевна Морозова, пославши к своим детям. Отказали ее богатые сыновья Арсений и Иван Абрамовичи… Одни отказываются по грубости вкуса, другие по скупости, третьи, имея иные области благотворения».
Тем не менее Цветаев не сдается. Он продолжает просиживать время в приемных, кабинетах и гостиных московских «денежных мешков», отнюдь не украшая, к слову, эти гостиные. Философ Василий Васильевич Розанов так описывал цветаевскую внешность: «Малоречистый, с тягучим медленным словом, к тому же не всегда внятным, сильно сутуловатый, неповоротливый, Иван Владимирович Цветаев, или — как звали его студенты — Johannes Zwetajeff, казалось, олицетворял собою русскую пассивность: русскую медленность, русскую неподвижность. Он вечно „тащился“ и никогда не „шел“. „Этот мешок можно унести или перевезти, но он сам никуда не пойдет и никуда не уедет“. Так думалось, глядя на его одутловатое, с небольшой русой бородкой лицо, на всю фигуру его „мешочком“ и всю эту беспримерную тусклость, серость и неясность».