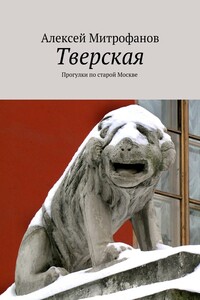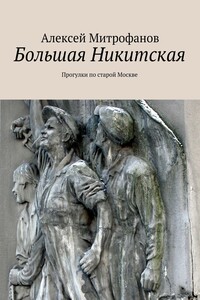Пречистенка. Прогулки по старой Москве | страница 112
— Я до пятидесяти лет этой радости не восчувствовал. Папенька с маменькой так воспитали — ни рюмки вина, ни понюшки табаку. Теперь, бывает, огорчаюсь: сколько веселья-то пропущено.
А про свой дом в Брюсовом переулке говорил с какой-то даже гордостью:
— Ты, позволю себе объявить, в нумизматическом кабинете Мартынова. Да-да, того самого, Николая Соломоновича, будь он неладен. Отец Мартынова богатейшим откупщиком был, это его дом. Кажется и Лермонтов сюда в юности хаживал, они ведь приятелями звались, он и этот… Мартыш. По мне, так никакой обиды в этом прозвище, а тот, видишь ли, оскорбился, защищал честь… Дело понятное, да ведь это только в горячке кажется, что неважно, в кого целишься.
Александр Сергеевич Крынкин был не чужд философии.
* * *
Еще одна из достопримечательностей Воробьевых гор — храм Троицы, рядом со смотровой площадкой. Эта маленькая церковка построена в 1811—1813 годы, как раз во время наполеоновского нашествия. Правда, первый храм на этом месте существовал еще в семнадцатом столетии.
Но знаменитой эта церковь стала лишь 30 января 1930 года, когда в столице запретили колокольный звон.
До революции в Москве (в границах Камер-Коллежского вала и Окружной железной дороги) было около 550 храмов. Домовые вообще не имели собственного звона, на монастыри, а также Кремль приходилось по одной звоннице. И в результате получалось, что звонило около трехсот церквей.
Звон не только оповещал о начале службы. Он отмечал различные ее этапы. И москвичи, неспособные по болезни или по делам выйти из дома, молились сами, соизмеряя ритм своей домашней «службы» с ритмом службы в приходском храме.
Постепенно храмы закрывались и сносились, звон терял густоту, становился все жиже и жиже. А в 1930 году и вовсе прекратился. Однако запрет действовал только на Москву. Поэтому горожане ездили слушать колокола в тогдашнее Подмосковье. Чаще всего — в церковь Троицы на Воробьевых горах.
При советской власти он не закрывался. А колокола звонили так громко, что бывало их звук доносился до самого Кремля.
* * *
Собственно говоря, главной здешней достопримечательностью должен был стать храм совсем иной — уже упомянутый храм Христа Спасителя, спроектированный Витбергом. Не исключено, что ему суждена была слава самого известного храма Москвы, а возможно, и России. Может быть, Европы, мира. Когда читаешь описание Александра Герцена, данное этому так и не воплощенному сооружению, все это представляется вполне реальным: «Храм Витберга, как главный Догмат христианства, тройственен и неразделен.