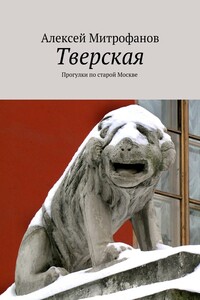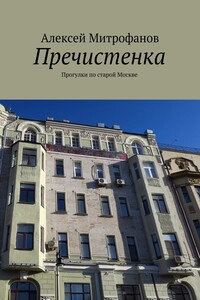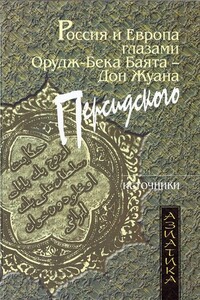Большая Никитская. Прогулки по старой Москве | страница 44
Судьба несчастных Менделя и Глюка неизвестна.
* * *
Несколько особняком располагался так называемый Рахманиновский зал Консерватории. Его музыкальная история древнее, чем у основного помещения: еще в 1886 году здесь разместилось Синодальное училище, которое готовило церковных регентов и певчих.
После революции училище было преобразовано в народную хоровую академию. Затем здание побывало в собственности Университета. Некоторое время тут располагался московский юринститут… Лишь в 1980 году здание было окончательно передано Консерватории, хотя одно время, в двадцатые годы здесь находился и ее вокальный факультет.
Искусствовед Е. Николаев настоятельно советовал: «Обязательно взгляните на дом со двора – это вообще нужно взять за правило (проход во двор – крытый переход между домом и зданием консерватории). Дворовый фасад разительно не похож на уличный. Если в уличном пластика достигалась в основном сопоставлением объема дома и флигелей, то дворовый производит впечатление мощного объема из-за скругленных углов ризалитов и чем-то напоминает изящные мощные объемы казаковского университета. Может быть, уличная отделка более поздняя, чем дореволюционная».
Можно, при желании, последовать совету Николаева. Если, разумеется, пустят во двор.
* * *
И все же москвичам дороже не сама Консерватория, а площадка перед ней. Площадку с двух сторон обнимают приятные флигели консерватории, с третьей – сам вход в Большой зал, с четвертой же на всякий случай перекрывает памятник Чайковскому – один из самых любопытных монументов города.
Автор его – знаменитая ваятельница Вера Мухина.
Поначалу наивная Вера Игнатьевна решила передать лиричность композитора, расположив рядом с ним молодого очарованного пастушка. На обсуждении маститые искусствоведы еле сдерживали смех. В конце концов от пастушка Мухиной порекомендовали отказаться. Один из участников мероприятия решительно заметил, что подобная, невинная на первый взгляд деталь даст «пищу для предположений совершенно не нужных». Более определенно высказаться не осмелился никто.
Наконец проект памятника был утвержден, и в ноябре 1954 года мухинский Чайковский был торжественно представлен публике сидящим перед нотами и разведшим руки в стороны. Сидящих дирижеров никто никогда видел, поэтому в расставленные руки мэтра явственно напрашивалась русская гармонь.
Композицию выполнили в виде знака «фермата», притом роль точки выполнял сам Петр Ильич на гранитном постаменте, а роль скобочки бронзовый нотный стан с первыми тактами из самых популярных сочинений композитора – «Евгения Онегина», «Лебединого озера», Шестой «Патетической» симфонии, Первого квартета, Скрипичного концерта и романса «День ли царит…». Сразу появились слухи – дескать, наглые студенты по ночам переставляют ноты, и наутро получается, что Петр Ильич писал «Собачий вальс» и прочие не слишком изысканные вещи. Якобы сторожу в связи с такой проблемой вручили запасные ноты и бумажку с тем, как должна выглядеть решетка. Несчастный сторож каждый день перед рассветом должен был сверять ни в коей мере не понятные ему крючки с оригиналом.