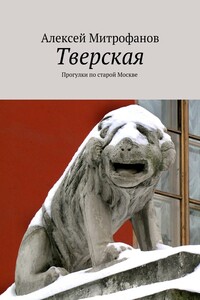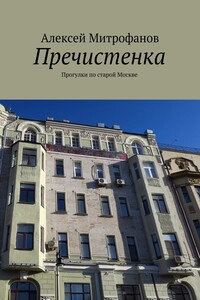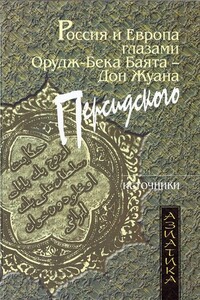Большая Никитская. Прогулки по старой Москве | страница 43
Можно предположить, чего могли в то время стоить профессуре эти страшные разоблачения.
* * *
Странно даже представить, но еще двумя годами раньше, в 1946-м, в Консерватории с успехом проходили концерты, где исполнялись произведения композиторов США. Больше того, они даже удостоились положительной рецензии в газете «Московский большевик»: «Вчера в Большом зале Московской консерватории состоялся концерт американской музыки, организованный Всесоюзным обществом культурной связи с заграницей (ВОКС) и Московской государственной филармонией.
В программу вошли произведения современных композиторов. В первом отделении была исполнена симфония №4 Джорджа Антейла. Она написана в 1943 г. и посвящена автором т. Сталину и храброму, чудесному советскому народу. Симфония навеяна героическими событиями у стен Сталинграда и воспевает мужество, героизм, бесстрашие воинов и командиров Красной Армии. Это произведение исполнялось в СССР в первый раз.
Шумный успех выпал на долю пианиста А. Цфасмана, виртуозно сыгравшего рапсодию Джорджа Гершвина в сопровождении Государственного симфонического оркестра Союза ССР и джаза Всесоюзного радиокомитета. В програм-му вечера вошли также две пьесы Аарона Копленда и сюита «Озарк» Эли Сигмейстера. Играл Государственный симфонический оркестр под управлением дирижера Николая Аносова.
Концерт прошел с большим успехом».
Да, еще свежи были в 1946 году воспоминания о войне, в которой СССР с Америкой были союзниками. И не наступили времена глупейших слоганов типа «сегодня он играет джаз, а завтра Родину продаст».
* * *
А в 1953-м в Большом зале Консерватории произошла курьезнейшая перемена. Дело в том, что еще при открытии зала его стены украсили портретами четырнадцати знаменитых композиторов работы Николая Бодаревского. Но спустя полстолетия решили, что здесь не хватает четырех гениев – Римского-Корсакова, Мусоргского, Даргомыжского и Шопена.
Разумеется, чтобы повесить новые портреты, надо было снять то же количество портретов старых. Было решено: оставить славян – по максимуму. Таким образом, консерваторцы «репрессировали» Гайдна, Глюка, Менделя и Мендельсона. В итоге сложилась странная ситуация: часть картин оказались подписаны в дореволюционной орфографии – с «ятями» и прочими давно забытыми буквами алфавита, а часть – в современной орфографии, без «ятей».
Старые картины были свалены на склад. До наших дней, увы, сохранилось только два портрета – Гайдн и Мендельсон: их отреставрировали и повесили перед входом в партер.