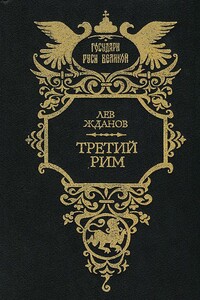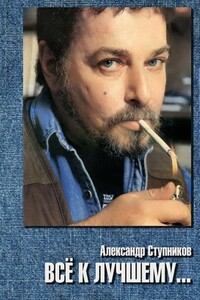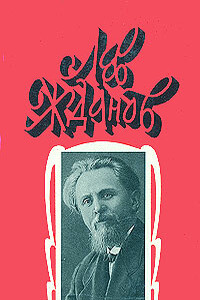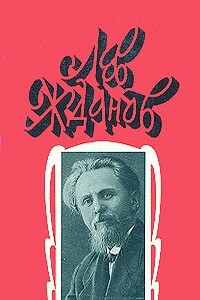Царский изгнанник (Князья Голицыны) | страница 19
— И он сам пожаловал ко мне в Квашнино, — говорила она, не стесняясь присутствия съехавшихся на именины соседей, — и это он сидит с нами за столом и кушает вино за моё здоровье!.. Да как мне благодарить его за такую милость!..
— Полно благодарить, — Серафима Ивановна, — сказал князь Василий Васильевич; не тебе меня благодарить, а мне тебя: вот тебе наш Миша; невестка поручает тебе его и надеется на тебя, как на лучшего своего друга; присмотри за ним на чужой стороне. Способности у него хорошие, и, если развить их, из него выйдет человек... С Чальдини ты знакома?
— Как же, батюшка князь, очень знакома. Ты, чай, помнишь меня, Осип Осипович? — спросила она у доктора.
— Очинь помнит, — отвечал Чальдини, — и теперь поедем вместе до Парижа.
Кроме итальянского и латинского языков, Чальдини не знал порядочно никакого; французский он знал ещё хуже русского, и, кроме князя Василия Васильевича, объяснявшегося с ним на латыни, все русские знакомые Чальдини говорили с ним по-русски. Перспектива ехать три тысячи вёрст с человеком, с которым трудно объясняться, не очень улыбалась Серафиме Ивановне; но в эту минуту она заботилась совсем о другом: она недоумевала, прилично ли будет посадить Чальдини за один стол с князем Василием Васильевичем и не лучше ли поесть ему пирожка стоя.
«Ведь мой больничный Вебер ест же стоя», — думала она. Князь Василий Васильевич сделал ей знак, который она поняла:
— Ну уж так и быть, садись Осип Осипович, только там, где-нибудь подальше, — сказала она, подавая итальянцу кусок курника, — чай, у себя в Италии ты таких пирогов и во сне не едал...
Князь Василий Васильевич прожил в Квашнине неделю с лишком. Чем больше узнавал он характер будущей спутницы своего внука, тем выбор этот казался ему удивительнее. Княгиня Мария Исаевна, а за ней многие другие говорили о Серафиме Ивановне, что она, правда, имеет свои странности; что она, например, очень вспыльчива, но что злой назвать её нельзя. В доказательство, что она незлая, указывали на устроенную ею на двадцать кроватей больницу, в которой очень искусный врач-немец, получавший полтораста рублей в год жалованья, лечил не только квашнинских, но и чужих крестьян; говорили, что в бывшее недавно в окрестностях поветрие перебывало в этой больнице до ста человек и что почти все они выздоровели. Скупой, по мнению иных соседей, её тоже назвать нельзя, и это мнение, кроме известного её хлебосольства, подтверждалось тем, что когда сгорела казённая деревня, то Квашнина на всякий погорелый двор отпустила по тридцать корней из своего леса и по четверти ржи из своего запасного магазина. Но рядом с подобными подвигами высшей христианской добродетели стояли в жизни Квашниной поступки грязнейшей скаредности и необыкновенной жестокости: многочисленная дворня её постоянно кормилась пустыми щами при умеренном количестве ржаного хлеба; в воскресенье отпускалось по ложке гречневой каши на человека; в большие праздники пеклись пироги без начинки — кислые, полубелые пшеничники. В лавках Серафима Ивановна без стыда торговалась и бранилась с купцами из-за всякого гривенника; за разбитые стаканы, тарелки, чашки она взыскивала с дворни двойную стоимость разбитой вещи и, кроме того, за неосторожность била мужчин по щекам, а женщин таскала за косы.