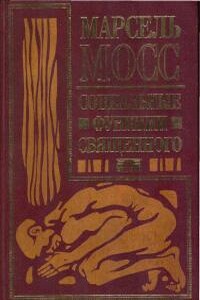Общества. Обмен. Личность. Труды по социальной антропологии | страница 81
Часто говорилось, что человек вначале представлял себе вещи, относя их к самому себе. Предшествующее изложение позволяет уточнить, в чем состоит этот антропоцентризм, который лучше было бы назвать социоцентризмом. Центр первых систем природы — не индивид; это — общество[384]. Объективируется оно, а не человек. Нет ничего более наглядного в этом отношении, чем способ, которым индейцы сиу в некотором роде помещают весь мир целиком в границы племенного пространства; и мы видели, что само вселенское пространство есть не что иное, как место, занимаемое племенем, но бесконечно расширенное за пределы его реальных границ. Благодаря этой же предрасположенности сознания столько народов помещали центр мира, «пуп земли», в своей политической или религиозной столице[385], т. е. там, где находится центр их духовной жизни. Точно так же, но в другой категории идей созидательная сила Вселенной и всего, что в ней находится, вначале рассматривалась в качестве мифического предка, породившего общество.
Вот как получилось, что представление о логической классификации формировалось с таким трудом, что мы и показали в начале этой работы. Дело в том, что логическая классификация есть классификация понятий. Но понятие — это четко определенное представление о группе существ; его границы могут быть точно обозначены. Эмоция, напротив, - это явление по существу расплывчатое и неустойчивое. Ее заражающее влияние расходится за пределы места ее возникновения, распространяется на все, что ее окружает, так что невозможно сказать, где остановится сила ее распространения. Эмоциональные по природе состояния необходимо связаны с этим свойством. Невозможно сказать, где они начинаются и где кончаются; они теряются друг в друге, смешивают свои свойства таким образом, что их невозможно распределить по строгим категориям. С другой стороны, чтобы суметь обозначить границы класса, требуется еще перед этим проанализировать признаки, по которым узнаются существа, собранные в этот класс и которые их отличают. Однако эмоция, естественно, не поддается анализу или по крайней мере поддается с трудом, потому что она слишком сложна. Она противостоит критическому и обдуманному рассмотрению, особенно когда она коллективного происхождения. Давление, оказываемое социальной группой на каждого из ее членов, не позволяет индивидам свободно судить о понятиях, которые общество само выработало и в которые оно вложило нечто от своей индивидуальности. Подобные построения священны для частных лиц. История научной классификации в конечном счете является также историей самих этапов, во время которых этот элемент социальной эмоциональности последовательно ослабевал, оставляя все больше и больше свободного места обстоятельному размышлению индивидов. Но ошибочно считать, что эти отдаленные влияния, которые мы сейчас исследовали, перестали ощущаться сегодня. Они оставили после себя результат, который переживает их и который по-прежнему существует: это сами рамки всякой классификации, это вся совокупность мыслительных навыков, благодаря которым мы представляем себе существа и факты в форме соподчиненных и подчиненных друг другу групп.