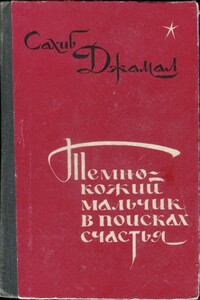Живущие в подполье | страница 111
XV
Вот вспорхнула стайка голубей. Внимание Васко, все еще стоящего у окна, привлекло хлопанье крыльев, которого не мог заглушить даже уличный шум. Они летели над крышами, кружа меж телевизионных антенн, словно резвые подростки, играющие в какую-то игру. Голуби не хотели пересекать ущелье проспекта или забираться в поисках приключении высоко в небо. Они не доверяли городу и боялись высоты. Их жизненное пространство было, словно школьный двор, огорожено стеной. В своем стремлении поскорей разрастись город брал приступом фермы, оставляя позади себя очаги сопротивления, которые потом методически завоевывал и разрушал: голубей, хижины, деревья, выросшие прежде, чем появились проспекты; крестьян, не принятых в круг городских жителей, которые всегда суетятся и не задумываются над тем, что заставляет их суетиться. Такой очажок упорно продолжал существовать на задворках здания напротив дома Барбары. Архитекторы, созидатели городского улья, еще не пришли сюда, на эту пустошь, со своей техникой, чтобы крушить, копать, перемалывать, пока мощные машины не сотрут с лица земли следы прошлого огороды, ветхие лачуги, непокорные деревья и бедняков, назовем их деклассированными элементами, тех самых, что однажды так взволновали Жасинту своими клоунскими лохмотьями и напомнили ей голодных воробьев на хлебном поле, — бедняков, тех самых, что чинят и строят для себя новые клетки, которые рано или поздно будут сметены зимними ветрами или бульдозерами. Клетки для людей и для птиц. Клетки без решеток. Вот почему голуби летали весело и неутомимо, не боясь самолетов, этих птиц города.
На задворках здания напротив стыдливо прятались от глаз горожан груды ржавого железа, почерневшего от сырости дерева, зловонные помойки, сотрясающиеся от ветра лачуги, белье на веревке, надутое, как парус, и бедняки со своими голубями. Высунувшись из окна пятого этажа, из окна без занавесок («На днях я сменю гардины, да и мебель тоже, или хотя бы сделаю перестановку; поменяешь мебель местами — и уже будто что-то новое в комнате, ты не замечал?»), Васко с наслаждением следил за их веселым полетом. Он забыл о времени, о том, что ждет Жасинту. И все же скоро, чтобы избежать нареканий Барбары (индианки Барбары или Нурии?), он снова опустит жалюзи, простится с неугомонными голубями, которые были свободны, даже когда не пользовались своей свободой, и вернется домой со спокойной совестью.
Впрочем, это спокойствие было призрачным. Спускаясь на лифте или, может быть, чуть позднее, уже на улице, оглушенный ревом города, он почувствует, как когтистая лапа сжимает его сердце: Мария Кристина. Васко никогда не знал, кто выйдет ему навстречу: воительница с надменным холодным лицом или женщина, которой знакомы тоска и страдания. Прежде ее страсть к обвинениям была просто привычкой или стратегической хитростью: настороженная бдительность Марии Кристины лишь прикрывала уверенность в том, что Васко предан и покорен. А сомнения мнимые или подлинные помогали ей истязать себя и мужа. Теперь же, после телефонных звонков и гадких провокаций Жасинты, все рухнуло. В отчаянии Мария Кристина цеплялась уже не за высокомерную уверенность в Васко и не за мимолетное сомнение, а за мысль, что непременно должна обрести вновь то, что выскользнуло из-под ее тиранической опеки. Чего бы это ни стоило. Она не испугалась скрестить оружие с Жасинтой, прибегнув к запоздалому кокетству, которое выглядело смешным: платье с рискованным декольте, каждое утро гимнастика в солярии на мансарде, чтобы кожа немного загорела, неумеренный пыл в ласках, сулящих то, чего они никогда не давали, и завершающихся холодным разочарованием; она унижалась перед ним («Ты еще находишь меня соблазнительной?»), прощала, не обижая («Если хочешь, Васко, жизнь всегда можно начать сначала»), и, наконец, проявила внезапный интерес к его творчеству, которое прежде считала ремеслом на потребу нуворишей. Однажды вечером Мария Кристина пришла к нему в мастерскую.