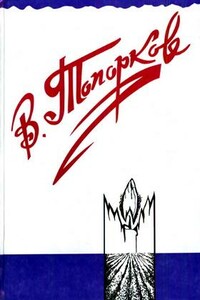Щепоть крупной соли | страница 59
…Отчим появился в нашем доме в конце войны. Был Григорий односельчанином, перед войной служил действительную, а потом фронт, ранение, одно, другое, и совсем списали по чистой. Он высок ростом, подтянут, тело, как ивовый прутик, гибкое, литое и ловкое, голова большая, как горшок, на кол посажена, с крупным носом, бровями вразлет. Может быть, этим и привлек он мать, женщину тихую и даже робкую. Нас, ребятишек, она любила своей кроткой любовью и, наверное, на такой шаг решилась во имя нас.
— Вы уж его уважайте, дядю Гришу, — говорила она нам. — В доме плохо без мужика. Худой плетень, а все спокойнее за ним.
Первые дни отчим вел себя, что называется, ниже травы, тише воды. Даже мы — моя младшая сестра и я — поражались его предупредительности. Задумает мать что-то сделать — огород вспахать, корове хлев подремонтировать, — а он, точно ясновидец, уже лошадь с колхозного двора привел, за соху взялся или с топором по двору разгуливает, постукивает по стенам.
Но потом что-то резко сломалось в его натуре. Стал он раздражительным, как горячий камень, плесни водой — зашипит. Трудно сказать, что на него повлияло, думаю, в немалой степени деревенские насмешки. Даже до меня доходили эти пересуды.
— И что Гришка Костыль (такую кличку дали отчиму за его хромоту) нашел в этой Фроське! Три рта на его шею свалилось, вот он их кормить и должен.
— Вроде мужик как мужик, а за себя девку взять не мог, на бабу позарился, — такой разговор затеяла однажды соседка наша, Мария Козявина, на покосе.
И другие женщины охотно ей в ответ закивали головами, дескать, правильно, подруга. Только одна Иваниха, пожилая, степенная вдова, в защиту матери сказала:
— Что-то вы, бабы, цену высокую Гришке дали, а Афросинью ни в грош не ставите? Она тоже, по-моему, из себя ладная да красивая. А что вдовой с двумя ребятишками осталась — так это война виновата, она наших мужиков к рукам прибрала и нас несчастными сделала. А на Гришку еще поглядеть надо. В тихом озере всегда чертей много…
Как в воду глядела Иваниха. После войны стал отчим подпивать, и насколько он был молчалив и спокоен в трезвости, настолько прорывало его после стопки. Тогда он садился к столу, ронял лицо в руки, взгляд его становился какой-то стеклянный, холодный до ледяного блеска, и он начинал «гудеть». Все ему было не так и не этак: и плохой ужин, и хлеб с горчинкой (а хлеб мать пекла в русской печи и считалась в деревне большой мастерицей по этой части), и свет от лампы тускмяный, впору разбить десятилинейку, и все мы плохие, которые «навязались на его шею, и срыть таких невозможно».