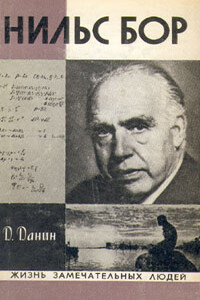Неизбежность странного мира | страница 63
Свет механически работал! Как ветер, как град… Поток электромагнитной энергии обнаруживал воочию, что он обладает массой. Сообщение Лебедева на Всемирном конгрессе физиков в Париже принесло ему широчайшую известность. А науке оно принесло уверенность, что нет никакой пропасти между «чистой энергией» (свет) и «чистой массой» (вещество).
И снова достойно внимания, что это произошло на рубеже, отделявшем прошлый век от нынешнего, — в том самом 1900 году, когда Планк выдвинул гипотезу квантов. На том же парижском конгрессе физиков Мария и Пьер Кюри докладывали о первых успехах в изучении радиоактивности. И в том же Париже, в том же самом году, другой конгресс — электротехнический — наградил Александра Степановича Попова дипломом и золотой медалью за изобретение радио.
Есть у выдающихся событий в истории науки такое обыкновение — сгущаться на коротком отрезке времени, потом оставлять как бы пустыми несколько лет, потом снова сгущаться. Так было в 1895–1896, 1900, 1905 годах. Но и у всех последующих десятилетий нашего века бывали свои счастливые высокоурожайные годы. Одна из таких памятных вех в истории изучения первооснов материи помечена совсем недавними годами — 1955–1956… Такие сгущения исторически не случайны, так же как не случайны обильные урожаи на упрямо, изо дня в день возделываемом поле.
В легком и быстром мире — в мире элементарных частиц — эквивалентность энергии и массы проявляется так броско, так ощутимо, что если бы этот закон и не был открыт в 1905 году как ближайшее следствие теории относительности, он все равно возник бы в атомной физике как рабочая гипотеза, а потом… А потом, раньше или позже, все равно была бы создана широкая общая картина движения материи, совпадающая с той, что открылась в работах Эйнштейна. Может быть, она, эта картина, не называлась бы тогда теорией относительности, а именовалась бы как-нибудь по-другому, но скорость света все равно удостоилась бы в ней особого места, как величина, предельная для физических скоростей. И тогда временная рабочая гипотеза экспериментаторов сама собой превратилась бы в строго установленный, нерушимый и всеобщий закон: Е = М·С>2.
Двадцатишестилетний эксперт третьего класса Альберт Эйнштейн, стоя за служебной конторкой в тиши Швейцарского патентного бюро, вывел закон эквивалентности чисто теоретически, на клочке бумаги, и жаждал его опытной проверки. Атомники-экспериментаторы нащупали бы этот закон в шумном многолюдье своих лабораторий чисто практически: