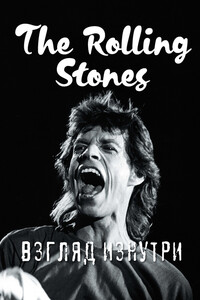Записки одессита. Часть вторая. Послеоккупационный период | страница 94
На собрании стали разбираться, как он докатился до жизни такой…
Романтик Жора поехал на целину, чтобы прославиться. Вскоре жратва кончилась, и водка тоже. На холодной казахстанской земле лежат лопаты, доски, гвозди — работай «до не хочу». Сельские комсомольцы так и стали делать. Жорик предпочел «не хочу», и без документов (их у него отобрали по приезду на комсомольскую стройку), бежал домой без оглядки, замечая только, как навстречу ему «едут новоселы — морды невесёлы»…
Приехал домой грязным, голодным, но обогащенным жизненным опытом. Трудовыми подвигами прославляться он больше не жаждал. Дома его документы, кроме паспорта и комсомольского билета, сохранились. В милиции Жорику выдали новенький паспорт «взамен утерянного».
Вот это все ему и припомнили…
Позже, лет через тридцать, когда доллары уже можно было показывать, наш водитель, Андрей, понял такое разрешение излишне буквально. Зашел с ребятами «добавить» в гастроном на Троицкой. При расчете вынул деньги, среди рублей в пачке было несколько однодолларовых купюр. Оплатили «банкет», разошлись. Андрей зашел в свою парадную на Успенской, и здесь на него напали какие-то сосунки, но их было много. Повалили, долго избивали. Последнее, что он запомнил после того, как из его карманов все выгребли, были слова:
— Пошли, дед уже не оклемается…
Кто-то из соседей вызвал «скорую». Отхаживали Андрея несколько месяцев, вернулся в таксопарк он тяжело больным…
Я видел его, когда он приводил в порядок свой таксомотор после длительной разлуки. Автомобиль выглядел таким ухоженным, сверкающим хромированными деталями, с теми же, что и раньше, веселыми подвесными мартышками…
Водители помогли Андрею материально. Знавшие его таксисты стояли на КТП с фуражками, и заезжающие, как всегда, когда у кого-то случалось горе, совали в эти фуражки кто сколько мог, и не скупились.
Это — давняя традиция таксистов, помогать попавшим в беду и их семьям.
А работа в самодеятельной бригаде связистов шла своим чередом. Бригадира или просто руководителя у нас не было. Все вопросы решались сообща. Миша Кушпиль любил и умел договариваться об объемах работ. При этом он ловко пользовался национальной неопределенностью своей фамилии: когда он договаривался с заказчиком-евреем, то представлялся протяжно: — Ми-и-иша Ку-у-шпиль, — с ударением на первом слоге, а с русским — ударение переносилось на второй слог, и фамилия произносилась кратко, на одном дыхании.
Вырос он в детдоме, и сам не знал, кто по национальности. Рано утром Миша непременно был должен выпить стакан водки, при этом его щеки надувались, как у большой лягушки, а лицо становилось пунцовым. Внутри его этот стакан не держался, и он бодро выливал выпитое обратно, в заранее подставленное ведро, при этом сразу восстанавливая силы и внешнюю солидность. Борис Соколов, телефонист из санатория Чкалова, не мог без содрогания и сочувствия смотреть, как Миша «поправляет здоровье», да и мы с Митей в такие минуты отворачивались… Никто Кушпилю не завидовал.