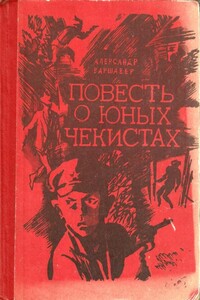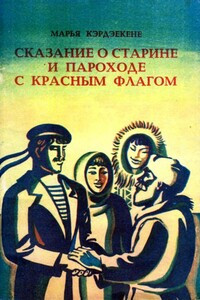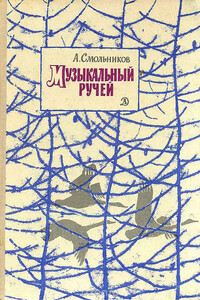Правдивая повесть о мальчике из Кожежа | страница 2
X. И. Теунов известен и как переводчик произведений русской классической и современной литературы на родной язык. Работа над переводами была для него хорошей школой писательского мастерства. Басни Крылова, «Капитанская дочка» Пушкина, «Женитьба» Гоголя, рассказы Горького, «Молодая гвардия» Фадеева и многие другие произведения пришли к кабардинскому читателю в переводах X. И. Теунова.
Родился Хачим Теунов в 1912 году в крестьянской семье в кабардинском селении Арик. «Мое детство совпало с первыми годами Советской власти, — писал X. И. Теунов. — Мне посчастливилось учиться в настоящей школе». А потом был рабфак, занятия в Кабардино-Балкарском пединституте и на Высших литературных курсах в Москве.
Во время Великой Отечественной войны X. И. Теунов работал секретарем обкома ВЛКСМ, после войны возглавлял Союз писателей Кабардино-Балкарии, избирался депутатом Верховного Совета Кабардино-Балкарской АССР и Председателем Верховного Совета К.-Б. АССР. Он активно участвует в общественной жизни родного края, занимается журналистикой, часто встречается с читателями, выступает по радио и телевидению.
«Правдивая повесть о мальчике из Кожежа» представляет собой вариант романа «Подари красоту души», переработанного автором для юношества. Книга рассказывает о судьбе нашего современника, о великой дружбе, которая помогает жить и работать.
Георгий Ладонщиков
Часть первая
ВЗРОСЛЫЙ МУЖЧИНА
Война грохотала уже на немецкой земле, когда в наш Кожеж пришла горестная весть: в боях за родину пал смертью храбрых мой отец — гвардии майор Наурзóков Кургóко Баты́рович.
Со всего села к нам в дом вереницей потянулись люди. Женщины, едва войдя во двор, начинали громко голосить, всплескивая руками и сокрушенно качая головой.
Причитая, они проходили в дом, где, одетая во все черное, сидела диса[1]. Голова ее была опущена, руки безжизненно лежали на коленях. Она плакала, но не причитала, как другие женщины, и лишь плечи ее чуть-чуть вздрагивали.
Старики, прежде чем войти во двор, оставляли свои посохи у ворот. Потом входили в калитку и в скорбном молчании направлялись к сараю: там уже сидело несколько аксакалов[2]. Они поднимались навстречу пришедшим.
Встав друг против друга и держа перед собой вытянутые руки, старики что-то шептали. Потом проводили ладонями по лицу и рассаживались по скамьям, наскоро сооруженным из старых досок и саманных кирпичей.
Возле сарая горел костер. Мудрые и старые, как сама земля, аксакалы задумчиво глядели на пламя, лишь время от времени роняя слово.