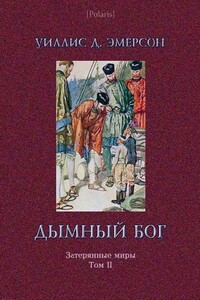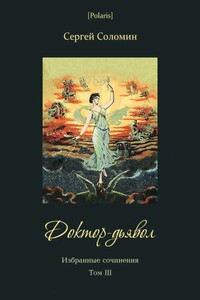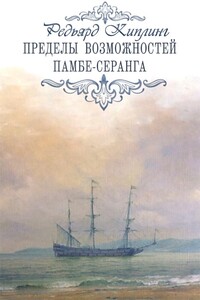Тайфун | страница 24
— В саду у реки, — задыхаясь, продолжал юноша, — меня ждет возлюбленная. Пока я нахожусь здесь, быстро уходят мгновения, потерянные для любви. Госпожа моя! Дозволь мне тотчас же покинуть твой дворец и побежать к девушке. Рядом с нею я хочу встретить смерть, которую готовит нам стихия. Я умоляю тебя, госпожа!
Жадным взором окинула царица Хаит говорившего юношу, и прошептали ее уста:
— Так вот какой должна быть настоящая любовь!
Потом заплакала и, ломая руки, быстро покинула свой трон, устремившись в опочивальню. Здесь дала она волю своим слезам и проплакала до вечера.
Когда же на небосклоне задрожали пурпуровые пятна, к ней был допущен Умбадара.
— Госпожа моя, — робко сказал маг, показавшись в дверях. — Я бы не посмел тревожить твоего царственного покоя, но чужестранные гости ждут. Не укажешь ли ты, кому из них выдать награду?
Не отрывая головы от подушек, Хаит сквозь слезы тихо прошептала:
— Юноше.
Затем прибавила:
— Тому, я не знаю как его зовут, которому была дорога каждая минута любви.
— Повелительница! — с тихим ужасом в потухающих глазах произнес маг и затрясся, как в лихорадке. — Посуди сама, — продолжал он, — своим неслыханным поведением этот дерзкий расстроил тебя и нарушил порядок. Чужестранцы могут разнести о нас дурную славу. К тому же он был самый красивый из юношей, и я полагал, ты отметишь его своим милостивым вниманием, а он осмелился полюбить смертную.
— Не спорь, добрый Умбадара, — с печальной усмешкой сказала Хаит. — Я знаю, что делаю. Самую короткую сказку рассказал он. Не спорь.
— Поистине короткую! — глухо прошептал маг, падая ниц перед плачущей Хаит. — Поистине короткую, потому что я приказал его казнить.
Поэт
Фил написал уже двадцать семь сочинений, не считая дистихов и эпиграмм, а его все еще не признавали великим и упорно не давали никакой придворной должности. Он злился, негодовал и возмущался людской глупостью, которая не умеет быть справедливой. Кроме того, он проклинал судьбу, одновременно с ним возрастившую Максима Плануда, который забрал себе всю писательскую славу, отпущенную на Византию. Фил пытался написать на него донос, но, изощренный в искусстве сочинять только хвалебные гимны и панегирики, остался недоволен своим двадцать восьмым произведением и разорвал его в клочки.
В такие минуты, то есть когда внутри его клокотала ненависть, а на зов ее сбегались слова, бессильные дать ей исход, он вспоминал, что занимается еще агиографией, и начинал прославлять апостолов, пророков и святых, а особенно иконы. Эти бескорыстные гимны, исполненные пафоса, утверждали перед ним самим его поэтическое священно-служение, которое возвышало дух. И, так как ненависть — к счастью для поэзии — посещала его часто, он написал множество звучных гимнов, в которых огонь мелочной злобы, помимо его воли, превращался в молитву.