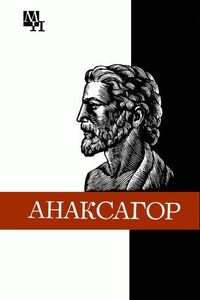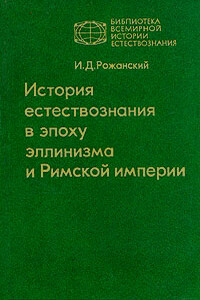Античная наука | страница 14
3. Почти для всех космогонических мифов характерна идея эволюции в сторону большей упорядоченности и лучшего устроения мира. Как правило, эта идея реализуется в форме борьбы последовательно сменяющих друг друга поколений богов, завершающейся воцарением светлого бога, разумного и справедливого; в индоевропейской мифологии это обычно бог ветра, бури и грозы — Индра, Перун, Вотан, Зевс. Этот мотив, тесно связанный с предыдущим, наличествует во всех космогонических учениях досократиков, где представлена идея начального, неупорядоченного состояния мира.
4. В мифологических представлениях некоторых народов предыдущий мотив дополняется мотивом периодической гибели и нового рождения вселенной (миф о « гибели богов» в германо-скандинавских легендах, идея «большого года», встречающаяся в древнеиранских религиозных текстах). В греческой мифологии этот мотив в явном виде не фигурирует, но подспудно ощущается в намеках на непрочность царства Зевса и на возможность его низвержения новым властелином мира. У досократиков этот мотив был использован Анаксимандром и, возможно, Анаксименом, далее Гераклитом и — в особенно отчетливой форме — Эмпедоклом.
Из сказанного вытекает, что космогонические концепции досократиков чрезвычайно многим обязаны космогоническим мифам предшествующей эпохи — как греческим, так и восточным. Греческим источником, откуда ранние мыслители черпали свои космогонические мотивы, была прежде всего «Теогония» Гесиода, что же касается восточных заимствований, то они иногда могли быть прямыми и непосредственными (как это, по-видимому, имело место у Фалеса), иногда же носили опосредованный характер, поскольку в самой греческой мифологии существовали сюжеты, имевшие восточное происхождение. Это относится, в частности, к мифу о титане Кроносе, оскопившем своего отца Урана. Сравнительно недавно в числе прочих археологических находок была обнаружена клинописная запись значительно более древней хетто-хурритской версии этого мифа, в которой в качестве точного аналога Кроноса выступает бог Кумарби. Перенесение этого сказания на греческую почву произошло, по-видимому, задолго до Гесиода — может быть, еще в крито-микенскую эпоху.
«Теогония» была произведением эпической поэзии. Но если не ограничиваться космогонической проблематикой, а посмотреть на значение этой поэзии в более широком плане, то надо признать, что не только «Теогония», но греческий эпос в целом сыграл огромную роль в становлении рационального, а следовательно, и научного мышления древних греков. Дело не только в том, что эпическая поэзия — нам она известна лишь по произведениям, дошедшим до нас под именами Гомера и Гесиода,— снабжала греческую науку теми или иными мотивами или сведениями, а прежде всего в том, что она способствовала разрушению религиозно-мифологического мировосприятия, с одной стороны, подвергая традиционные мифы рационалистической обработке, а с другой — эстетизируя их. И в том и в другом случае исчезало непосредственное отношение к мифу, как к живой реальности.