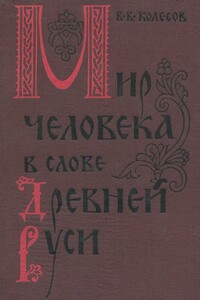Древняя Русь: наследие в слове. Бытие и быт | страница 7
Воспитывают не гражданина, а человека, ту саму загадочную русскую душу, о которой лучше других сказал Бердяев: «Душа России как бы не хочет создавать культуру через распадание субъекта и объекта [т. е. той самой «природной среды». — В. К.]. В целостном акте хочет русская душа сохранить целостное тождество субъекта и объекта. На почве дифференцированной культуры Россия может быть лишь второстепенной, малокультурной и малоспособной к культуре страной. Всякий творческий свой порыв привыкла русская душа соподчинять чему-то жизненно существенному — то религиозной, то моральной, то общественной правде. Русским не свойствен культ чистой красоты, как у русского философа трудно встретить культ чистой истины, и это во всех направлениях. Русский правдолюбец хочет не меньшего, чем полного преображения жизни, спасения мира» (Бердяев, 1986, с. 360).
Так и в Домострое проявляет себя вера. Это — убежденность в том, что, следуя обычаям, поступаешь верно.
Что же касается надежды, тут все ясно. Надежды человеческого бытия всегда определялись внутренней связью между личным желанием и общей волей, между государственным и частным. При этом средневековая мысль вовсе не обожествляет государство, так и Домострой отражает взгляды традиционного общества, в котором моральную и социальную защиту человек получал не от государственной власти, а от рода, от общины, от ремесленного цеха. Всем своим существованием средневековый человек связан с Домом, и сумма прав каждого определялась тяжестью долга и личного служения Дому. Степень надежды определяется местом в иерархии и вкладом в Дело Дома. Мир Домостроя таков, что и «парадигму личности» — отвлеченную категорию современного нам сознания — создают в нем не социальные или культурные отношения человека к различным классам, группам, партиям, профессиям и пр., а наоборот, цельность личности как бы временно снимает с себя те или иные свои признаки в угоду и на потребу цеху, обществу или государству, которые в данном случае понимаются всего лишь как формы воплощения и временного пребывания все той же основной для Средневековья ипостаси социального пространства — семьи, Дома. Потому что на рубеже XV-XVI вв. один лишь Дом и оставался еще единящей множество людей социальной силой, абсолютной в своих проявлениях. Из Дома развивается и общество — общественная среда, которая, все более сгущаясь в социальных своих связях, порождала затем государство как новый уровень социальных отношений. Смысловой перенос в самих терминах, использованных Домостроем, знаменателен: