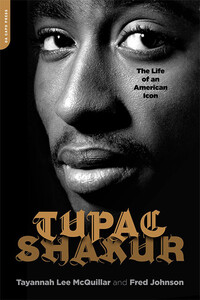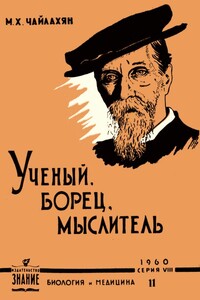Переводчики, которым хочется сказать «спасибо» . Вера Николаевна Маркова | страница 2
«Придворная дама, фрейлина императрицы, из аристократической семьи, сама — дочь поэта, прошедшая весь курс литературного образования, постигшая все тайны поэтического искусства, воспринявшая целиком всю эту утонченную культуру, — Сэй-Сёнагон как нельзя лучше подходила к созданию этого вида художественной прозы. Наблюдательный, меткий, склонный к сарказму, иронии, насмешкам ум способствовал выпуклости, четкости и яркости ее набросков».
«Из-под подушки» — озаглавила она эти наброски: хотела сказать, что это все ей так близко, так дорого, что может быть доверено лишь изголовью, этому постоянному поверенному и мечтаний о счастье, и стенаний в бедах, тайных и скрытых. Тишь и покой. Сёнагон у себя в комнате: у изголовья, рядом с подушкой маленький прибор с тушью и кистями, свиток бумаги тут же, около. Поднимается рука и набрасывает две-три фразы, мысли, свидетельства памяти, что-нибудь еще; записывается, свертывается и... суется под изголовье, под подушку».
Пространность цитаты имеет свое логическое обоснование, но об этом чуть ниже. А пока лишь переведу восхищенный вздох и замечу попутно, что эти строки писались не где-нибудь, а в Петрограде, и не когда-нибудь, а в холодный, голодный 1923 год. Когда в серии «Всемирной литературы», основанной А. М. Горьким почти сразу же после Великой Октябрьской революции, и была опубликована повесть «Исэ моногатари» в переводе двадцативосьмилетнего на тот момент Николая Конрада. А еще ранее, в 1919 году, в самый разгар Гражданской войны, было выпущено специальное уведомление о готовящейся к печати книге, в котором особо отмечалось, что «русские востоковеды охотно откликнулись на призыв передать понятной русской речью замечательные и характерные произведения восточных писателей...»
И чего стоят после этих строк рассуждения некоторых современных культурологов и иже с ними, с упоением рисующих нам ужасы первых лет советской власти со всем ее якобы мракобесием и уничтожением всяческой культуры как таковой? Нет, господа хорошие! Нарождающееся новое общество с самого начала сделало ставку именно на культуру, на высокую культуру, способную не только просвещать народные массы, но и вести их вперед и вверх. Как в той песне — все выше, и выше, и выше... По-моему, пробил час, когда нам, сегодняшним, стоило бы крепко задуматься над тем, а куда тянет народ уже нынешняя культура во всех ее проявлениях и смыслах. «Вот в чем вопрос», как говаривал незабвенный Гамлет. Во всяком случае, главный принцип советской образовательной системы — «элитарность знаний при тотальной возможности их получать» (цитирую по памяти мысль, вычитанную в одной давней статье), так вот, этот принцип утерян, и как мне кажется, безвозвратно и навсегда. Ведь ныне на гребне славы и на повестке дня всяческие матерные «баттлы», приблатненный шансон и глупейшие детективы, которые почему-то сплошь и рядом именуются не иначе как «ироничными».