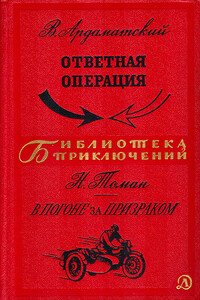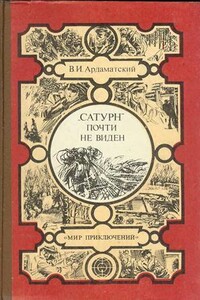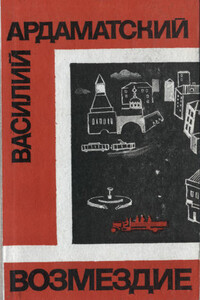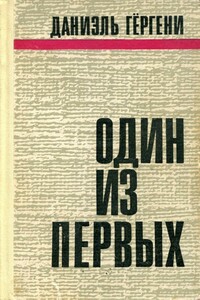Конец «Сатурна» | страница 11
Рудин промолчал.
— Вы не обидитесь, если я задам вам один вопрос? — спросил Фогель.
Рудин молча кивнул.
— Вы пришли к нам по велению ума, совести, души или обстоятельств?
— И то, и другое, — не раздумывая, ответил Рудин. — Только обстоятельства были, пожалуй, всего лишь ускорителями главного процесса.
— Вы все же немец, вам, наверное, трудно контактировать с Андросовым?
— Нет. Хотя вот он — человек, которого привели к вам главным образом обстоятельства, но не только обстоятельства войны, но и его довоенной жизни, когда его обидели.
— Да, да, я в курсе, — сказал Фогель.
— Мне кажется, Андросов — очень надежная фигура.
— А если обстоятельства изменятся, тогда как? — быстро спросил Фогель.
— Какие обстоятельства?
— Ну… ход войны?
— Да что вы, господин Фогель! Назад ему все пути отрезаны. На той стороне его ждет только одно: расстрел или виселица.
Рудина насторожил последний вопрос Фогеля. Это, пожалуй, похоже на деловое прощупывание.
— У вас есть семья? — продолжал спрашивать Фогель.
— Только отец, из-за него я и не женился.
— Как это так?
Рудин рассмеялся.
— Он ревновал меня ко всем моим девушкам, существующим и несуществующим. Когда я учился и потом, когда жил в Москве, каждое его письмо начиналось вопросом: не променял ли я на юбку его верную отцовскую любовь? Иногда, особенно в юности, мне эта его ревность казалась патологической, а потом я к ней привык и как-то примирился. Я нравился женщинам и без женитьбы и в конце концов сам пришел к мысли, что с женитьбой лучше подождать и подольше пожить, как говорится, в свое собственное удовольствие.
— А у меня есть жена, — задумчиво сказал Фогель, — и разлука с ней меня тяготит.
— Вот этого-то и я боялся.
— Мы обвенчались в день, когда наши войска вступили во Францию, — начал рассказывать Фогель. — Спустя месяц я уже был в Париже. Она туда ко мне приезжала. Вы никогда не были в Париже?
— Нет.
— По-моему, самый прелестный город на земле. Он создан для любви. Мы с Ренатой провели там незабываемое время. Тогда из Парижа все виделось иначе, даже дальнейший ход истории, даже Россия с ее грозной таинственностью. Мы с Ренатой решили тогда, что у нас будет ребенок и мы назовем его Адольфом. Но, увы, оказалось, что она не может рожать. Я не поверил своим врачам, показал ее французским. Они сказали то же самое. Вот так скоро пришло к нам первое горе…
Фогель рассказывал все это с чисто немецкой сентиментальностью, в которой для него органически сливались и история Германии, и неспособность жены к деторождению, и их фанатическая любовь к Гитлеру, чьим именем они хотели назвать сына. Рудин слушал Фогеля с огромным интересом, потому что в его рассказе была не только эта извечная немецкая сентиментальность, в нем чувствовалось гораздо более важное — настроение слепого приверженца гитлеризма.