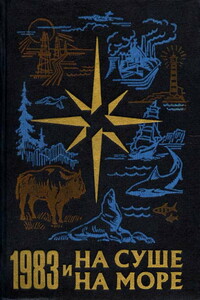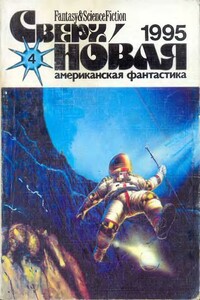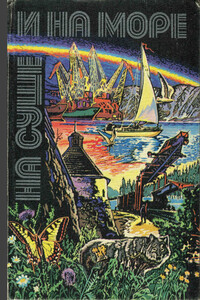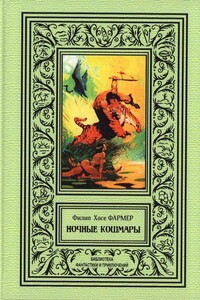Платиновый обруч | страница 145
Подавленный и утомленный, он забрасывал Обруч песком, чтобы свет не проникал наружу, затем выбирался из ямы и грозно призывал:
— Ко мне!
И оставшиеся кобчики тотчас оказывались перед ним; они не спрашивали, куда подевались их товарищи, — спрашивать было нарушением Уложения и, следовательно, преступлением.
— Закопать.
Такая работа заканчивалась обычно в несколько минут.
— А теперь вы должны умереть. Такова моя воля.
— Есть, Ваша Недоступность! — следовал стройный ответ.
Оставшись один, Могучий Орел поднимался в воздух и, презирая непогоду, начинал кружить над этим местом.
Буря в конце концов начинала стихать, гром удалялся, ветер успокаивался. Море постепенно зализывало следы работы; вот уже совсем гладок песок, вот уже волны перекатываются через отмель и достигают скалы, где недавно прятались кобчики, а далеко на востоке начинает матово светиться небо. Идет прилив…
Следует заметить, что Могучий Орел все реже наведывался к своему тайнику. «Эта моя ночная тоска в бурную погоду — это от волнения стихий в природе, как верно объясняет Гэ-Гэ, — рассуждал он. — Потому что я — олицетворение природы. Зачем мне летать туда?
Если мой ум бессилен изобрести новое желание, то, значит, и нет более того, чем я обладаю, и нечего больше желать». А кроме того он испытывал своего рода зависть к Платиновому Обручу: «Могу ведь я и сам сделать то, что захочу или что окажется необходимым, — я, Аквила Регия, непобедимый и величайший, — ибо что же я за „непобедимый и величайший“, если то и дело прибегаю к помощи какого-то обруча?» Боялся он также, что, может статься, чудом уцелеет кто-то из кобчиков, и тогда… Трудно было представить, что случится тогда…
Бессонница приходила порой и в спокойные ночи, чаще в безлунную тихую погоду, когда по земле разливалась теплая истома и мир блаженно замирал, как бы упиваясь своим совершенством и бесконечностью, и звезды горели особенно ярко и близко. Могучий Орел запирался в одной из самых отдаленных комнат и вышагивал там в одиночестве, изнывая от больных дум и непонятных желаний. В эти минуты он уже не думал, что является олицетворением природы, и мудрствования Гэ-Гэ представлялись глупейшей болтовней. И вот, когда тоска уже грозила перейти в отчаяние, он вызывал Оракульшу, и они говорили.
— Что есть жизнь? — спрашивал он, и она отвечала:
— Жизнь есть движение.
— От чего к чему?
— Из одного места в другое.
О таких вещах лучше было бы не говорить с Оракульшей — еще ни разу подобный разговор не приносил успокоения. Но слушать подлую лесть и пустословие Гэ-Гэ было еще горше.