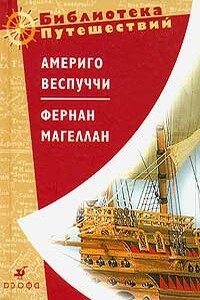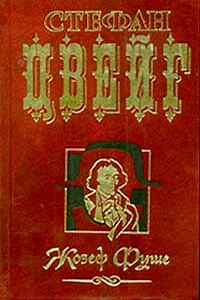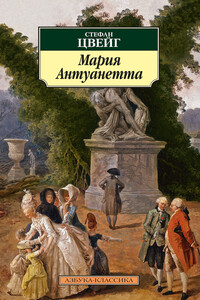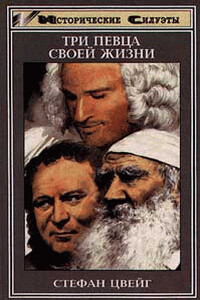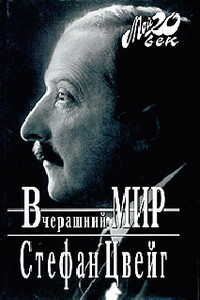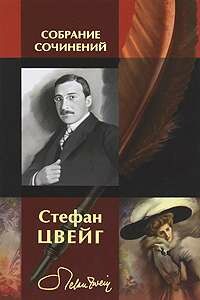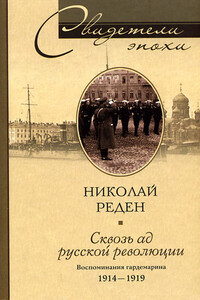Три мастера: Бальзак, Диккенс, Достоевский. Триумф и трагедия Эразма Роттердамского | страница 9
И единственной, всеподавляющей страстью самого Бальзака было исторгать из груди человека эти первозданные силы, вернее, тысячи видоизменений подлинной первичной силы, подогревать их, повышать их давление, подстегивать, опьянять эликсирами ненависти и любви, чтобы они неистовствовали в хмелю, а иные разбивались о камни преткновения слепого случая, сжимать их и разрывать, связывать между собой, перебрасывать мосты от мечты к мечте, от скряги к коллекционеру, от честолюбца к сластолюбцу. Неустанно смещать параллелограммы сил в судьбе своих героев, распахивать грозную бездну между гребнем волны и новым валом, швырять их то вверх, то снова вниз, гнать людей, как рабов, никогда не давая им покоя, тащить их, как Наполеон таскал своих солдат через все страны — из Австрии обратно в Вандею, через море и снова в Египет и в Рим, затем через Бранденбургские ворота и оттуда на горные обрывы у Альгамбры, потом сквозь победы и поражения в Москву, и под конец бросил половину в пути, растерзанных гранатами или погребенных под снегами русских равнин. Как набор кукол, изготовить самому весь мир, расписать его, как декоративный пейзаж, и потом беспокойными пальцами управлять театром марионеток — в этом была его мания. Потому что и сам Бальзак был одним из тех великих, одержимых одной страстью людей, которых он увековечил в своем творчестве. Разочаровавшись во всех своих мечтах, отвергнутый безжалостным миром, который не терпит начинающих и бедняков, он зарылся в своем тихом убежище и сам воссоздал образ мира. Это был мир, принадлежавший ему одному, он властвовал над ним, и он умер вместе с ним. Действительность проносилась мимо него, и он не пытался схватить ее, он жил, замкнувшись в своей комнате, пригвожденный к письменному столу, жил в толпе своих образов, как коллекционер Эли Магюс среди своих картин. С тех пор как он достиг двадцати пяти лет, окружающая действительность, — за редкими исключениями, всегда приводившими к трагедии, — занимала его только как материал, как горючее, необходимое, чтобы приводить в движение маховик его собственного мира.
Он почти намеренно жил вне действительной жизни, словно боясь, что соприкосновение обоих миров — внешнего и его собственного — должно причинить ему боль. По вечерам, уже утомившись к восьми часам, он ложился в постель, спал четыре часа, и, по его просьбе, в полночь его будили. Когда шумный Париж закрывал свои огненные глаза, когда темнота опускалась на шум улиц, внешний мир исчезал — тогда начинал возникать его собственный мир, он возводил его рядом с тем другим миром и из его же расчлененных элементов, часами находясь в лихорадочном возбуждении, непрерывно подстегивая утомленные чувства черным кофе. Так работал он по десять, двенадцать, иногда даже по восемнадцать часов, пока что-нибудь не вырывало его из мира фантазии и не возвращало к действительности. В эти секунды пробуждения у него бывал, наверное, тот взгляд, что схватил Роден