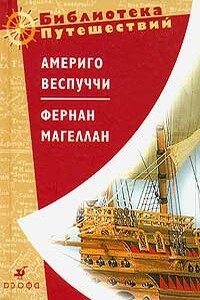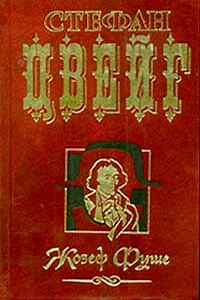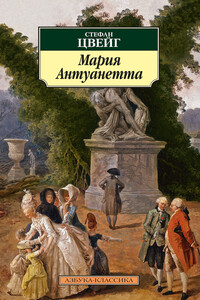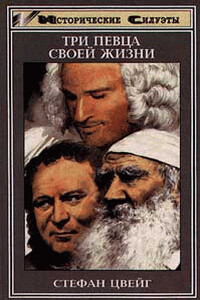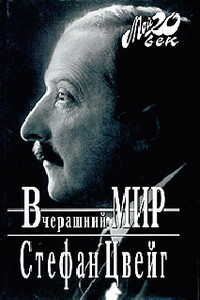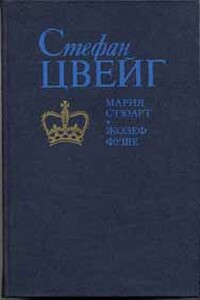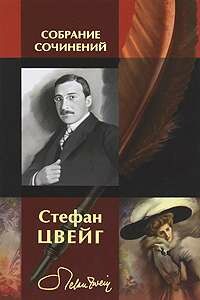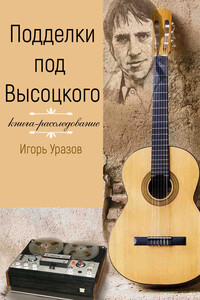Три мастера: Бальзак, Диккенс, Достоевский. Триумф и трагедия Эразма Роттердамского | страница 16
В «Человеческой комедии», вопреки прекрасному, но написанному только впоследствии предисловию, нет никакого внутреннего плана. Она беспланова, как беспланова сама жизнь в восприятии Бальзака, в ней нет никакой назидательной цели, нет задуманного единства. В ней вечно изменчивое должно было быть показано именно в его изменчивости, во всех ее приливах и отливах нет постоянной силы, а только та бесплотная, словно из облаков и света сотканная атмосфера, которую называют эпохой. И единственный закон этого нового космоса заключается в том, что люди, — непрочные соединения которых, собственно, и создают эпоху, — сами являются созданиями этой эпохи, равно как их нравы и их чувства. То, что в Париже называют добродетелью, к западу от Азорских островов является пороком; ничто не имеет прочной ценности, и люди, одержимые страстью, должны расценивать мир так же, как по воле Бальзака они оценивают женщину: она стоит столько, во сколько она обходится.
И так как писатель — уже потому, что он сам является плодом, созданием своей эпохи, — не в силах извлечь из этого вечного потока изменений ничего устойчивого и постоянного, то его задачей может быть только воспроизведение атмосферного давления, духовного строя своей эпохи, изменчивой игры взаимодействующих сил. Честолюбивые мечты Бальзака заключались в том, чтобы стать метеорологом воздушных течений общества, математиком воль, химиком страстей, геологом первичных национальных форм — многосторонним ученым, который при помощи всех своих приборов изучает тело своего времени, и вместе с тем он хотел быть собирателем всех фактов, живописцем ландшафтов своей эпохи, солдатом ее идей. Именно поэтому Бальзак был так неутомим в описании как грандиозных, так и ничтожных, бесконечно мелких фактов и событий, и творчество его, по бессмертному выражению Тэна, стало «величайшим после Шекспира складом человеческих документов». О Бальзаке нельзя судить по отдельному произведению, а только по всему его творчеству в целом, и рассматривать его должно как единый ландшафт с горами и долами, бескрайними далями, предательскими пропастями и стремительными потоками.
С него начинается, и если бы не явился Достоевский, то можно было бы сказать, что им и кончается, понятие романа как энциклопедии внутреннего мира. До него писатели знали только два способа, как подгонять сонный двигатель действия: они либо прибегали к действующему извне случаю, который, подобно свежему ветру, наполнял паруса и гнал судно вперед, либо же избирали в качестве единственной внутренней движущей силы эротические побуждения, перипетии любви.