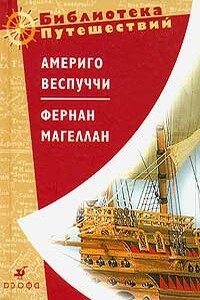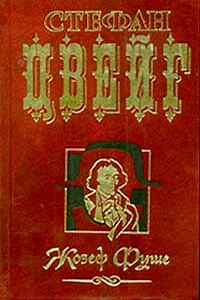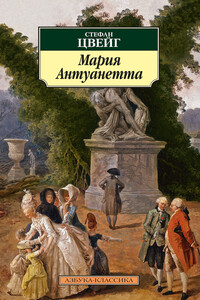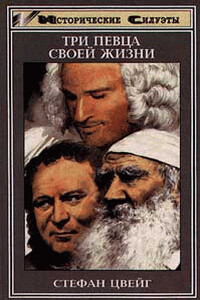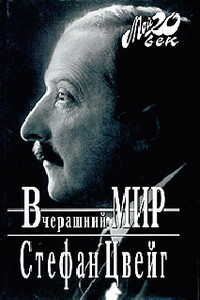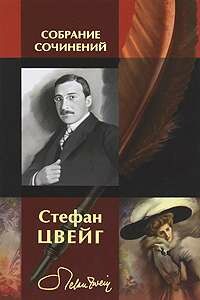Три мастера: Бальзак, Диккенс, Достоевский. Триумф и трагедия Эразма Роттердамского | страница 12
, ставшую его женой, ту «иностранку», к которой были обращены его знаменитые письма, он страстно полюбил еще до того, как увидел ее воочию, когда она еще была так же нереальна, как «златоокая девушка», как Дельфина и Евгения Гранде. Для настоящего писателя любая иная страсть, кроме страсти творчества, кроме воображения, — уже отступничество. «Писатель должен отказываться от женщин, они вынуждают терять время; нужно ограничиваться письмами к ним, это выковывает стиль», — сказал он Теофилю Готье. В глубине души он и любил не госпожу Ганскую, а свою любовь к ней, он любил не то окружение, в котором в действительности находился, а лишь то, которое создавал себе сам. Он так долго утолял свою жажду действительности иллюзиями, так долго тешился видениями и личинами, что в конце концов и сам, подобно тому как это бывает с актерами в минуты наивысшего возбуждения, поверил в свою страсть. Неутомимо нес он бремя творческой страсти и до тех пор усиливал процесс внутреннего горения, пока пламя не вырвалось наружу и не погубило его. С каждой новой книгой его жизнь съеживалась, как шагреневая кожа в его мистической повести при осуществлении любого желания героя этой повести. Он был побежден своей манией так же, как игрока побеждают карты, пьяницу — вино, курильщика опиума — роковая трубка и сладострастника — женщины. Его погубило слишком полное исполнение желаний. Неудивительно, что такая гигантская воля, столь щедро наполнявшая творческие мечты живою кровью и плотью, усматривала в своей собственной магической силе тайну жизни и возводила самое себя в мировой закон. Он сам не мог обнаружить своего определенного мировоззрения, ибо никак не проявлял себя самого, а был только чем-то вечно изменчивым и, подобно Протею, не имел собственного образа, так как воплощал в себе все образы. Подобно дервишу, неуловимый, словно дух, принимал он обличья разных людей, блуждая в лабиринтах их жизней, и сам бывал каждым из них — то оптимистом, то альтруистом, то пессимистом, то релятивистом; он вызывал и подавлял в себе все мнения, все качества, включая и выключая их, как электрический ток. Действенной и неизменной оставалась только его необычайная воля, то волшебное слово «сезам», которое раскрывало перед ним, посторонним, скалы чужих человеческих сердец, провожало его в мрачные пропасти их чувств и выводило оттуда, нагруженного самыми драгоценными сокровищами их живого опыта. Он, как никто иной, склонен был по необходимости приписывать воле необычайную мощь, возникающую в духовном мире и воздействующую на материальный мир, и ощущать волю как основной принцип жизни, как всемирный закон. Он был убежден, что воля — этот флюид, излучаемый каким-нибудь Наполеоном, — сотрясает миры, сокрушает империи, создает князей, Перемешивает миллионы судеб, что воля — это неосязаемое давление духа, направленного вовне, — воздействует также и на материальную оболочку, лепит черты лица и пронизывает все тело. Ведь даже мгновенное волнение меняет у любого человека общее выражение лица, скрашивает грубость и даже тупость и придает ему иной характерный облик. Насколько же более значительно должно чеканить и выписывать человеческое лицо длительное напряжение воли, продолжительная страсть. Человеческое лицо для Бальзака— это изваяние жизненной воли, отливка характера, и так же как археолог узнает целую эпоху древней культуры по ее окаменевшим остаткам, так и ему казалось, что задача художника — узнать, определить по чертам человеческого лица, по окружающей его атмосфере его внутреннюю культуру. Эта физиономистика побуждала его увлекаться теориями Галля
Книги, похожие на Три мастера: Бальзак, Диккенс, Достоевский. Триумф и трагедия Эразма Роттердамского