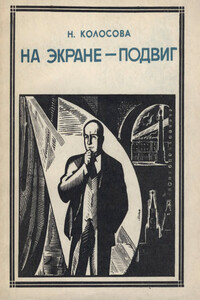На дне блокады и войны | страница 44
Стою у закрытой двери. Впереди длинная дорога. По старой карточке я уже выкупил хлеб и съел. Кругом никого, только пустота и мороз, и прижимая к себе деревяшки, иду назад…
Уже в полной темноте подхожу к дому, ощупью подымаюсь на второй этаж. Кружится голова и безнадежно хочется есть. Спотыкаюсь. Падаю. Это труп. Он еще не задубел. Тайная надежда: нет ли у него чего-нибудь съедобного? А, может быть, карточки?! Я на коленях в полной темноте обшариваю его карманы… пусто… пусто… просыпанный табак… немного денег… бумажки с остатками чего-то жареного, крошки хлеба. Всю добычу я складываю в его шапку, подымаюсь и с трудом открываю дверь. Из квартиры тянет затхлым морозным и вшивым холодом. У меня последние силы. Обязательно надо что-нибудь съесть. Но в комнате совсем пусто.
Это я знаю. В голову приходит мысль спечь из этих бумажек лепешки. Я рву бумагу на мелкие кусочки, на рашпиле натираю опилки… Вторая мысль! Ведь стулья склеены столярным клеем — его можно есть! С трудом разламываю упругий венский стул, соскабливаю клей. Все это заправляю содой и тщательно перемешиваю с водой. Затем формую и жарю на сковородке лепешки. Печь постепенно прогорает и надо экономить дрова. Я засовываю в топку шапку покойника. Она вонюче горит, но греет. Это эксперимент: если выйдет, то покойника можно будет раздевать и дальше. Одновременно кипячу воду. И вот ужин. Я заглатываю клейкие лепешки, запиваю кипятком с глицерином. Хочется быстрее лечь в кровать, но вонючая шапка плохо горит. Я ее тормошу кочергой, наконец, закрываю вьюшку и забираюсь под ворох тряпья…
Среди ночи я проснулся от страшной головной боли. Все кружилось, а тело будто кололо иголками. Противно пахло угаром и рвотой. Рвота с содой пузырилась на губах. Было упорное желание как можно быстрее исчезнуть отсюда, убежать. Голова не поднималась. Я свалился с низкого скрипучего дивана и пополз из комнаты. Приподнялся у двери, открыл ее и выполз в холодный коридор. Ручка входной двери была скользкой от инея. Дверь, вероятно, примерзла и не открывалась. Я пополз в другую сторону, где за узким коридором была коммунальная кухня. Желудок конвульсивно освобождался от остатков бумажных лепешек. Я затих где-то на полпути, уронив голову на заиндевелый пол. Не знаю, сколько прошло времени, но я все-таки очнулся (ведь мне надо было еще написать эти записки!), приподнял налитую чугуном голову, потер онемевшую щеку, сел. Начался ледяной озноб. Вероятно, это была последняя попытка тела остаться живым. Оно все тряслось и дергалось. И… вы, читатели, не удивляйтесь. Правда, легко сказать: не удивляйтесь, ибо я сам не могу понять, но до сих пор каждой клеточкой тела помню то удивительное состояние, когда я, бесплотный, вишу в воздухе и как будто со стороны смотрю на бьющееся в агонии мое тело. Это не сон. Мне не больно и не тяжело. Мы существуем отдельно. Помнится какое-то детское любопытство: что же с ним— с этим телом— будет? Потом галлюцинации прошли. Держась за стенку, я вернулся в комнату. Шапка в печке еще ядовито тлела, распуская по комнате едкий вонючий дым. Я открыл вьюшку, засунул в топку без разбора попадавшиеся под руку деревяшки. Больше сил не было. Сколько времени продолжался кошмар той ночи? Рвота, понос, я вставал, лихорадочно бросал что- нибудь в печь, пил воду, снова ложился, вставал, то в кромешной тьме, то в полутьме… Наконец, то ли уснул, то ли потерял сознание… Сквозь дрему, как будто во сне, услышал далекий женский крик.