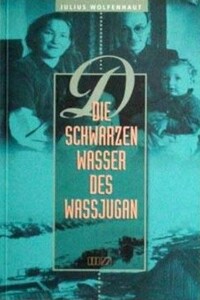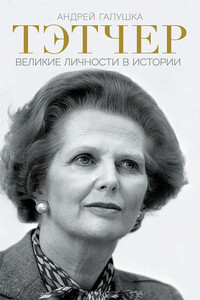На дне блокады и войны | страница 26
Сразу же сократили все нормы выдачи продуктов. Иждивенцы стали получать по 250 граммов, а рабочие по полкило хлеба в день. Но настоящего голода еще нет, и я не догадываюсь, что очень скоро буду сыпать в кипяток землю с этих складов, пропитанную горелым сахаром и добытую ночью на охраняемом от населения пепелище.
С фронта поступают сводки об упорном сопротивлении, оборонительных боях… Только по названиям оставляемых городов можно понять, как быстро идут немцы. В отдельные дни и недели они практически не встречали сопротивления. Но я на такой анализ явно не был способен. До меня совсем не доходила страшная опасность даже тогда, когда в сводках замелькали знакомые с детства Красногвардейск, Ропша, Дудергоф, Красное Село… Уши больше прислушивались к газетным фразам: «враг отброшен», «враг остановлен», «враг несет огромные потери»… Где-то может быть и было так, но не под Ленинградом.
К концу сентября быстро растаяли все продуктовые запасы, так или иначе бывшие в каждой семье. Именно к этому времени наша квартира, а с нами и вся масса «рядовых ленинградцев», ощутила первое, как ледяной ветер сковывающее душу дыхание голода.
Мы еще не знаем, что такое дистрофия. Люди стыдятся постоянного чувства голода. Еще не слышно в очередях отчаянных криков: «Пустите! Я дистрофик третьей степени!». Но недостаток продуктов («голодный дискомфорт») уже крепко укоренился в городе. Люди стремятся что-то достать, купить, обменять. Город, как растревоженный улей, глухо гудит, с надеждой прислушиваясь к бравурным крикам о наших победах. Появились слухи: выезжать на колхозные поля запрещено — расстрел на месте… Но все равно где-то в начале октября оставшиеся обитатели нашей квартиры сделали несколько выездов за хряпой. Дважды брали меня. Особенно запомнилась последняя поездка. Возглавлял ее Александров— застрявший в Ленинграде учащийся партийных курсов в Смольном. Александров с женой Надькой и дурашливой дочкой Нелькой поселились в нашей квартире году в тридцать седьмом— тридцать восьмом в комнате работавшего в Смольном сына Бухводички после того, как тот повесился (я об этом уже писал). Присутствие партийца Александрова вселяло в нас уверенность в хорошем исходе.
По утрам уже подмораживало. Одевшись потеплее и забрав мешки, мы, женщины и дети, поехали на трамвае куда-то на Ржевку или Пороховые. Несмотря на ранний час, вагон был полон такими же «мешочниками», как мы. Не доехав до петли одну остановку, мы вышли и настороженно двинулись к темневшим вдали капустным полям. Осенний ленинградский рассвет задерживался, но и в темноте была видна безнадежно пустая черная вытоптанная земля. Очень редко попадались вдавленные в землю обрывки капустных листьев. Их и собирали… Прошло часа три, и мы стали поворачивать к дому. На краю поля я увидел уткнувшийся тупым носом в землю наш подбитый ястребок «Чайку». «Не ходи туда, там солдат!» — крикнула мне женщина, но я пошел, ибо вокруг самолета зеленели, — а среди них и белели! — капустные листья. Я уже набрал почти целый мешок, как из-за самолета вышел заспанный солдат с винтовкой наперевес. Я испугался и убежал. Домой принес совсем немного хряпы, спрятанной за пазухой и в карманах штанов.