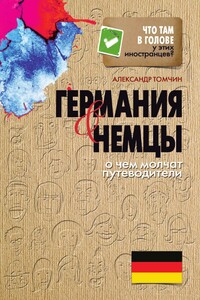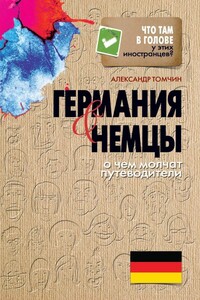Русский менталитет. Рашен – безбашен? За что русским можно простить любые недостатки | страница 78
Павел I славился своим самодурством, и это послужило поводом для легенд. Бард Юлий Ким в шуточной песне «Волшебная сила театра» описывает, как Василий Капнист сочинил пьесу, а Павел пожелал ее увидеть на сцене – немедленно, в полночь. Как только сыграли первый акт, автора в собственной постели разбудили: «За ногу тряс его меж тем фельдъегерь с предписаньем изъять немедля и в чем есть отправить за Урал! И впредь и думать не посметь предерзостным мараньем бумагу нашу изводить, дабы хулы не клал». Капниста заковали в кандалы и повезли в Сибирь. Но в четвертом акте порок в пьесе был наказан. Царь послал нового гонца – автора тут же вернуть во дворец. «У, негодяй! – промолвил царь и золотом осыпал. – Почто заставил ты меня столь много пережить?»
При Николае I, если человека прогоняли сквозь строй в тысячу человек и били шпицрутенами, смерть почти всегда была неминуема. Однажды граф Пален написал царю рапорт с просьбой назначить смертную казнь нарушителям карантинных правил. Тот наложил резолюцию: «Виновных прогнать сквозь тысячу человек 12 раз. Слава богу, смертной казни у нас не бывало и не мне ее вводить». Помещики не считали крепостных крестьян за людей. Объявление в «Санкт-Петербургских ведомостях» за 1800 год: «На Васильевском острову по Большому проспекту в доме под № 76 продаются мужской портной, забавный зеленый попугай и пара пистолетов».
Деспотизм властей вызывал ответную жестокость и варварство населения. Историк Н. Костомаров так описывает нравы XVII века: «В драке русские старались вцепиться один другому в бороду, а женщины хватать одна другую за волосы. Самая обыкновенная русская драка была кулачная; противники старались нанести один другому удары или прямо в лицо, или в детородные части». Вплоть до XIX века кулачные бои стенкой на стенку были одним из любимых праздничных развлечений.
Во второй половине XIX века писатель Кузьмин-Караваев утверждал: «Произвол царит в нравах, в обычаях; в семье, в общине, между родителями и детьми, в сношениях крестьян между собою, в их отношениях к помещикам и к органам власти. Показать свою силу и власть, возможность принизить человека – главный мотив деятельности всех и каждого». Московский лабазник Сорокин любил при случае бить морду своим служащим. За это им было заранее положено сверх жалованья по десяти рублей.
В крестьянских семьях мужья, напившись, жестоко избивали жен и детей. Больных и беспомощных воспринимали как обузу для семьи. «Бывает, что рассвирепевший муж бьет свою чахоточную, лишенную способности к труду жену и приговаривает: «Либо здоровей, либо околевай, пропадущая», – свидетельствовали наблюдатели. «Марья даже бывала рада, когда у нее умирали дети» – так рассказывал Чехов о нравах в дореволюционной деревне.