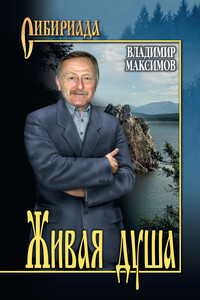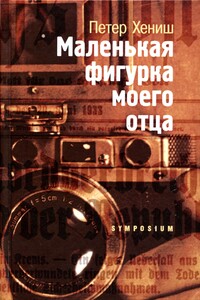Переполненная чаша | страница 23
Она плыла в этой лодке и завидовала сестрам Михановским, их московской квартире и даче — сама Грация жила в то время в теткиной комнате на диване-кровати, носившей прелестное название «Надежда», а еще больше завидовала какой-то особой независимости сестриц, которая вырастала из их защищенности. Они были защищены толстенными бревенчатыми стенами дачи и безбрежностью московской квартиры, давно упокоившимся генералом-дедом и полковничьей пенсией отца. У них было не меньше бабских проблем, чем у Грации, но пышная Марьяна Леонидовна умела так хохотать и над пустяками, и над смертельными ударами судьбы, что этот громкий и пузырящийся смех тоже был защитой для девочек, тогда как единственный родной человек Грации — тетка умела лишь сетовать на несправедливость жизни. К старости любимым адресом у тетки стали «другие». Она говорила: «Вон у других…», или «Другие умеют крутиться», или «Другим можно…» У нее к старости грудь высохла, а Марьяна Леонидовна слыла и поныне «первым бюстом республики» — так говорил Михановский, крутя при этом клок волос надо лбом, и, хмыкнув, с удивлением добавлял: «Черт-те что!»
Но, возможно, думала Грация, самой главной защитой для девочек были многочисленные друзья и родственники, которые по определенным дням — раза три-четыре за лето — съезжались на дачу Михановских. Среди них были древние старухи с фарфоровыми зубами и визжащие груднички, народные артисты и сантехники, жены летчиков-испытателей и сами герои воздушных просторов, которые говорили о космонавтах с плохо скрываемым превосходством и — одновременно — с откровенной завистью. В такие дни Грация еще больше ощущала свое одиночество — не личное, так сказать, а общественное. У нее не было такого вот «круга» — частое слово Марьяны Леонидовны; единственная родня — тетка не могла ее ни пристроить, ни защитить, ни научить чему-либо полезному. В давние времена, когда к тетке на приволжском полустаночке в домишко обходчика собирались гости, то они толковали о чем-то совершенно неинтересном, а у Михановских можно было узнать о том, что дочка Брежнева — фарцовщица, а Володя Высоцкий — явление исключительное, и его прекрасный хриплый голос стал олицетворением судьбы городского интеллигента, волей ленинской партии и Советского государства загнанного в угол. Грация ежилась от таких смелых суждений, но потом думала: «Им можно. Раз они не боятся, не оглядываются, значит, им можно». Она порой не соглашалась с ними. Высоцкий, по ее мнению, совсем даже не выражал отборную часть населения, элиту, он, наоборот, думала Грация, хрипит оттого, что задыхается весь-весь народ, но в спор не вступала. Кто она такая для этого «круга»? Она просто сидела и слушала — о похождениях принца Сианука, о том, что со временем весь мир станет мусульманским, а писатели-деревенщики слишком уж идеализируют глубинку и прошлое России, совершенно не понимая, что этого прошлого не вернуть… И порой случалось так, что, видимо, в награду за молчание и выдержку Грация неожиданно — и всегда с радостью — начинала ощущать свою собственную принадлежность к этому кругу, широкому сообществу людей, связанных родством или многолетней дружбой, которые, если, не дай бог, случится нечто дурное, не дадут ее в обиду. Тем хуже становилось ей потом, когда возвращалась в город и сжималась в комок на своей «Надежде» в пропахшем бедностью и неудачами теткином жилище.