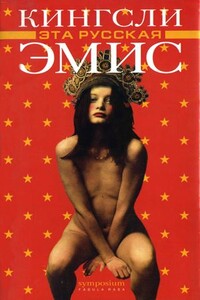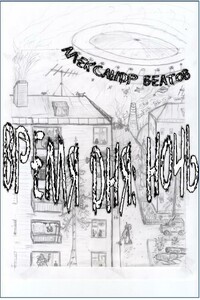Переполненная чаша | страница 134
«Что за спешка? — спросила она. — Ты погляди на часы, Миша. Еще нет восьми, а вам бы только заседать».
«Проспала, — понял я. — Ей во вторую смену, вот она и проспала».
Срывающимся голодом я возвестил о постигшей весь мир трагедии. А она, помолчав, буднично произнесла: «Да знаю я. Туда ему и дорога…»
«Что?! — крикнул я. — Что ты говоришь? Неужели тебе не жалко?»
«Конечно, жалко, — сказала она. — Всех жалко. Только не его…»
Наверное, неделю, а то и больше я не решался заходить в комитет комсомола. Мне казалось, что стены, потолок, цветы в глиняных горшках на подоконнике, старый, с облупившейся черной краской телефон — все, что там было, помнит наш разговор. Ее, эту девчонку, я еще мог оправдать: «А вдруг она от горя помешалась?» Но я-то был в своем уме! И ничего не сказал я, не дал отпор. Конечно же мне и в голову не могло прийти, что в окружении этой девчонки знали о Сталине больше, чем знали мы, пораженные болезнью беспамятства и охваченные коллективной истерией. Знали больше. И понимали больше.
У меня не нашлись тогда слова. Я просто положил — с опаской и с еще каким-то чувством, похожим на брезгливость, — телефонную трубку, мокрую от моей вспотевшей ладони, на ухватистые рычажки. Слова родились много позже. Возможно, слишком поздно, чтобы их произносить. Моя внучка, медноволосая Лизавета, укладывала спать куклу и пела в убаюкивающей тональности колыбельной: «Наш любимый падишах с детства нам внушает страх. Оттого, не зная страха, бережем мы падишаха…»
«Нет, Лизаветка, нет, — сказал я, — и все же ничто не проходит даром. Ни страдания, ни муки, ни заблуждения. Даже массовые психозы предков повышают защитную реакцию потомков на социальную ложь и политическую демагогию. И нет такой жизни, которая была бы прожита напрасно. Вознесена ли она на алтарь благодарного Отечества, положена ли на плаху, или брошена к ногам бездушных детей».
«Дед, — испугалась рыжая Лизавета, — ты что? Это же песенка из «мультика». А ты кричишь…»
Это ничего, что мои слова не достигли малолетней внучки. Зато я наконец высказался…
Не помню, день или два я продолжал носить запечатанные, залитые сургучом пакеты с информацией из парткома в райком. Меня беспрепятственно пропускали милиционеры и солдаты. Я не ощущал в те дни, что родился с м о р к а ч о м, а как только вспоминал: «Сталин умер!» — слезы начинали течь по моим щекам сами собой…
А директор типографии оказался мудрым и добрым человеком. Как он яростно, взахлеб кричал на нас! Как грозил и матерился! С какой силой его кулак грохал по столу, покрытому толстым зеленоватым стеклом. При каждом ударе я вжимал голову в плечи и закрывал глаза: боялся, что это стекло брызнет в разные стороны миллионом осколков. Он кричал, накаляясь с каждой следующей секундой все больше и больше, а со мною творилось что-то странное: я, наоборот, успокаивался, потому что зародилась и постепенно росла уверенность: все образуется.