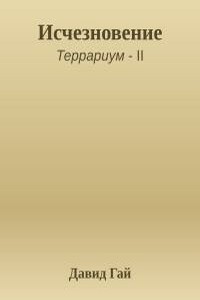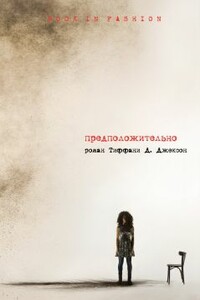Террариум | страница 47
Как-то заговорили о вероятности войны с Западом, В. неожиданно изрек: “Зря ты волнуешься. Нам нечего опасаться”. – “А с чего у тебя такая уверенность?” – “Да с того, что Кейган в Заокеании ещё мало что значит, даже если он сойдёт с ума, войну заокеанцы не развяжут. Почему? Видишь ли, там существует отлично сбалансированная система противовесов, защищающая от самодура во власти”. – “Ну-ну, поясни…” – Очень просто. Важнейшие государственные решения принимаются лишь при согласии Конгресса, нередко и Верховный суд проверяет принятые решения на соответствие Конституции. Один Кейган чокнуться может, но не весь же Капитолий! А люди там разумные, поймут, что война ничего хорошего не принесёт”. – “В общем-то оно так, но какого хрена они с этими “першингами” и “звёздными войнами” выпендриваются? Это ведь всё с позволения Капитолия!” – “Ну, ты даёшь! Это же они нас боятся, у них есть механизм для предотвращения безумия, а у нас? Торбачёв вроде бы разумный мужик, а вдруг инфаркт, и завтра придёт какой-нибудь обалдуй из Политбюро, какая на них надежда, кто их остановит? Верховный Совет, что ли? Вот заокеанцы и вынуждены демонстрировать: “Только суньтесь!” – “Хорошо, а академик Крахмалов, как можно приветствовать
резкое усиление военной мощи Заокеании?” – “Снова повторю: не нам надо бояться Запада, а они имеют все основания бояться нас, и только очевидное военное превосходство Заокеании может образумить властителей в Кремле… Я тоже не одобряю все действия академика, но на то он и академик – что можно ему, то не подобает нам, сирым”. Через неделю после этой дискуссии, на партсобрании ячейки, приятель изумился: В. охотно поддержал разговоры о “сионистском влиянии” на академика, прежде всего, исходящим от жены, в этом был весь В.: зачем наживать неприятности, ссать против ветра? Хамелеон… Утвердившись в своем определении, приятель снова был обескуражен: В. с вольнодумным жаром пропагандировал частную собственность, правда, в кабинете они были вдвоем; “Частная собственность – естественный элемент сути человеческой личности, каждый ведь из нас стремится иметь в собственности самые ценные для себя вещи, самые праведные коммунисты никогда не забывали и не забывают свои личные потребности, и они бывают у них очень даже не слабые; и частные фирмы работают всегда лучше государственных, ты это видишь даже на востоке Гансонии, где социализм по нашему образцу, но разрешены автомастерские, пекарни, строительные фирмочки, парикмахерские… Если развивать экономику без учёта этого естественного человеческого свойства, толку не будет”. Приятель делал круглые глаза, а В. продолжал: “Понимаешь ли ты, какую огромную роль в обществе играет право наследования?” – “Я понимаю это право как буржуазный предрассудок, все люди должны быть равны, если кто-то родился в семье богача, почему он должен иметь преимущества перед кем-то, кто родился в семье бедняков?” В. в ответ: “Вот-вот, так и возникают Иваны, не помнящие родства… если я знаю, что результаты моего труда не достанутся моим наследникам, как же я могу стараться реализовать мой потенциал? Я и буду тянуть лямку для видимости, да пьянствовать, что мы и видим вокруг; только общество, где закон гарантирует передачу плодов труда потомкам, может обеспечить человеческую гармонию. Ведь это же – закон природы, работать во имя своих потомков, а не во имя абстрактного общества. Когда все пекутся о себе, стараются для себя, то и общество в целом процветает”. – “Если так, социализму каюк, а как же мы с тобой, офицеры госбезопасности, куда нам податься, кому служить будем, какие идеи отстаивать?” В. разводил руками и хитро прищуривался.