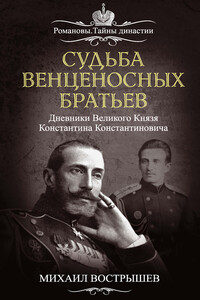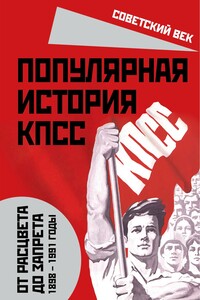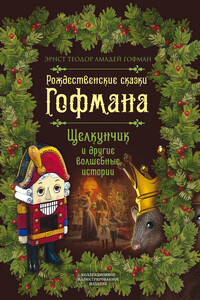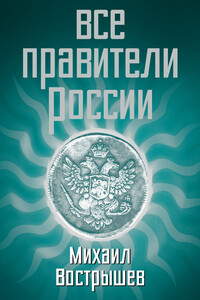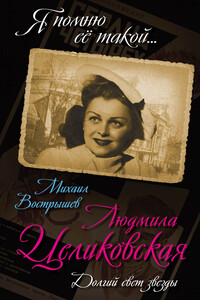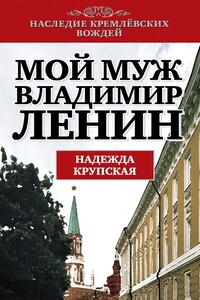Судьба венценосных братьев | страница 78
Он наказывал солдат за провинность (опоздал из увольнения, пришел выпивши, купил арестованному сослуживцу водки и т. д.) мягче, чем того требовал устав. Эти поблажки не одобрялись высшим начальством. За чудачество принимали его скрупулезное изучение прошлой жизни каждого новобранца, интерес к каждому: пишет ли домой, отчего грустен, в чем нуждается?
«Начало Великого поста… Как-то отрадно, тепло стало на душе, когда впервые опять послышались дивные слова: «Господи и Владыко живота моего!» Мне как-то особенно приятно класть поклоны и креститься одновременно с моими солдатами» (24 февраля 1886 г.).
«Так люблю наблюдать солдата, прислушиваться к его выражениям, шутить с ним, разговаривать, заставлять его рассказывать» (27 марта 1886 г.).
«Читал старослужащим андерсеновскую сказку про Гадкого утенка. Они остались очень довольны» (19 марта 1887 г.).
«Я мечтаю написать ряд солдатских сонетов. Тем много. «Знамя» — символ всего высокого, святого в воинской службе. «Царский смотр» — чувства преданности, мужества, восторга. «Часовой» — олицетворение терпения, стойкости, исполнения долга. Но в тысячу раз труднее сжать в кратком стихотворении выражение этих самых заветных чувств, воплотить их в художественные образы, чем предаваться лирическим излияниям по поводу красот природы» (14 января 1891 г.).
В течение 1890–1910 годов время от времени великий князь пополняет свой цикл солдатских сонетов: «Новобранцу», «Часовому», «Пред увольнением», «Полк», «Порт-артурцам», «Кадету», «Юнкеру».
Они хоть и не стали заметным явлением в мире богемной поэзии, но сыграли заметную роль в воспитании духа русской армии.
С.-Петербург 11 января 1891