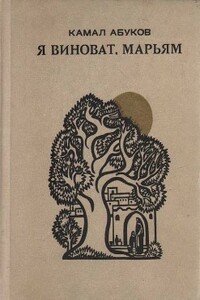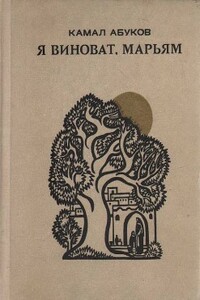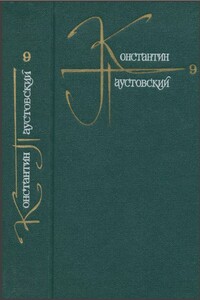Не жалею, не зову, не плачу... | страница 24
Пульников, остальные только помощники. Кто поверит в нашу туфту? Враньём
только озлобим всех. – «Ничего не надо выдумывать – сказал я. – Мы и так не
виноваты». Нет, хирург сразу руками машет, не хочет слушать. – «Ты же без пяти
минут врач, Женя, ты порядочный человек, разве порядочные так делают?»
Пульников пошёл жаловаться. На меня. Блатным. Больше некому меня
урезонить. И опять Волга учит меня уму-разуму: «Ты должен сказать два слова –
оперировала Глахова. Ты же умный мужик, волокёшь, что к чему, неужели не ясно?
Ты вовек не отмоешься, если своего хирурга посадишь на третий срок». Вот так,
хоть тресни, опять я виноват. Не стечение обстоятельств, не хмырь с ножом, не
растяпа-хирург, не Глухова и не её муж майор, – все они в стороне, один я в бороне.
Мотаю хирургу третий срок. Не надо ломать голову там, где всё просто. Для выхода
из тупика требуется сущий пустяк – забыть о правде, помнить о выживании. Из века
в век, из поколения в поколение ломают, бьют и убивают тех, кто стоит за правду.
Человека уберут, а правда остаётся даже там, где поголовно лгут. Люди сами по
себе, а она сама по себе. Вот я бы талдычил сейчас: «Глухова оперировала. Глухова
оперировала», – и стал бы героем на все сто.
В сумерках вышел я из больницы побродить в одиночестве. Бараки стояли в
одну линию, проходи вдоль, проходи поперёк, нигде ничего по кругу, как в моей
любимой Алма-Ате. Там всегда ясное небо и горы в снегу, даже летом хоть чуточку
не вершинах белизна остаётся. Чистые улицы, театр оперы на фоне гор, красиво.
Как раз в те дни, когда мы сошлись с Беллой, возле оперного ставили памятник
Сталину, вырыли глубокую траншею и допоздна там сварка сверкала, непонятно,
что сваривали, будто боялись, что ветром сдует. Очень капитально ставили
бронзовое многопудье.
В институт я ездил на трамвае, висел на подножке и смотрел, как под ногами
чешуёй мелькает булыжник шоссе. Я закалял себя после болезни. Нельзя мне было
так ездить, опасно, диагноз у меня был тяжёлый, нельзя было стоять даже возле
камней, и вот я нарочно рисковал. Или разобьюсь, или закалюсь. И продолжаю
сейчас путь свой. Иван, он же Евгений после приговора. Два имени моих сошлись в
трибунале, две сущности совместились, и появилось нечто третье. Древние думали,
имя диктует человеку поведение, и называли детей со смыслом. Пётр для русского
уха просто Пётр, а для греческого – Камень, Твёрдость, отсюда и характер, с