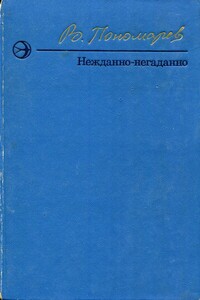Будни | страница 27
Хмурый и молчаливый сидел Федька на телеге.
Пятнадцать лет тому назад песенник и плясун Федька Жижин впервые увидел на поседке в Приселках девушку в скромной синей кофте. Увидел — и пропал. Не было с той поры часу, чтобы не думал он о ней, не вспоминал бы ее голос, ее быстрые глаза под черными, круто изогнутыми бровями. Случилось это осенью — и навсегда полюбил Федька пустые, выжатые осенние поля, осенние запахи, непроглядные ночи, в темноте которых парень кажется во сто раз милей, а девушка нежней, теплей и красивей… Точно такой непроглядной ночью сидел однажды Федька с любимой на бревнах в Приселках. Сама положила Анюта на плечо к нему горячую руку, шепнула:
— Феденька…
На всю жизнь запомнил Федька эту ночь, этот жаркий шепот, это легкое прикосновение Анютиной руки и, вспоминая о них, не раз говорил задумчиво:
— Анюта, я тебя любил не по-человечески…
А сейчас — ничего нет. Нет прежней Анюты, и никогда уже не вернется она. Пятнадцать лет любил, верил, а она — обманывала, притворялась… Нет и сына, Васьки, — есть отродье врага… Все это было так неожиданно, что Федька сразу опал, растерялся, не знал, что делать. Было страшно думать, что придется ломать ладную семейную жизнь, страшно было сознавать, что нет ни Анюты, ни Васьки. «А может, так показалось, — пробовал он успокоить себя, — может, и нет ничего. Сходство до седьмого колена тянется». Он пытался представить себе, как будет жить без жены и сына — как придет усталый, голодный из лесу и никто не встретит его, — не услышит он голоса Анюты, не увидит сонного лица Васьки, который не ложился до сих пор, чтобы дождаться его… Нет, нет, страшно!
— Тятька, — прерывая его мысли, сказал Васька, — Мишка Семенов злой, с ним играть совсем нельзя.
— А ты от него подальше… У него отец — кулак, а мы с тобой — не то. Я в окопах лежал, власть брал…
Уже стирались в сумерках тени, тушевались кусты на горушке в Марьином потоке, когда они приехали туда. На краю чащи остался нескошенным чей-то клин — высокая бурая трава шуршала под колесами. Черные лужи с пятнами желтых и красных листьев, как большие старушечьи платки, пестрели в низинах. В стороне на березах семьями сидели тетерева — казалось, что это вырезанные из черного картона силуэты вросли в вечернее, до боли холодное небо. Все казалось застывшим, настороженным и холодным — но во всей этой неподвижности было что-то давно знакомое, милое — и каждое кривое дерево, каждый листочек на земле, каждая травинка казались родными. Иногда лошадь, упрямо опустив к земле голову, пила из разломанной лужи. Затихал шелест травы о колеса, становилось жутко в наступившей тишине, только хомут поскрипывал веревочными гужами.