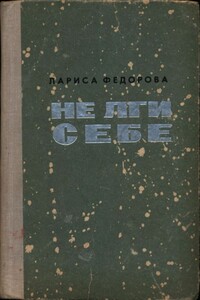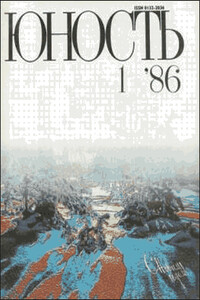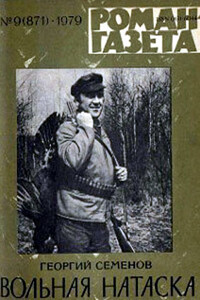Луна звенит | страница 34
И снова он прислушивался к неприметному дыханию старшего сына, не думая ни о чем, не вспоминая, — и ни боли не чувствовал, ни радости, как в думах о погибших сыновьях. Все в нем мертвело.
«Иван теперь сам старик — чего ж тревожиться: жить умеет, — думал отец. — Дача и все такое… Хитрый мужик! Подъехал так, что люди и не поймут ничего, похвалят только: вот, мол, какой сын заботливый, старичков на дачу к себе берет. Так подъехал, что и я-то сразу не разобрал, к чему это он клонит, чуть слезой не прошибло от волнения… Матери-то невдомек, зачем мы ему там нужны, заплакала глупая. А он, стерва, на чувствах ее играть хочет! Ах ты, стерва! Стало быть, не честная она, эта дача его придача. Ох и хитрый мужик! Чуть было меня, дурака, с толку не сбил: поверил я было, что вот оно, сыновье-то чувство — не оставил, дескать…»
И, думая так, он глушил в себе и, сердясь, не подпускал к сердцу неосознанное какое-то чувство, похожее на зависть или на обиду, — не разберешь. Недозволенное какое-то чувство, которое он испытывал втайне к сыну, словно (подумать было страшно) жалел, что в живых остался Иван, а не один из тех, других сыновей. И клял он себя за этот туман, за муть эту постылую, за тяжесть на сердце и даже кричал неслышно всем своим существом, духом и мыслью взрывался в гневе, топтал, давил себя, как насекомое, очищаясь от этого холода и злобности. «Цыц! — кричал он себе. — Обглодок!»
Обессиленный борьбой, он подолгу лежал в равнодушии, пока не начинала сниться ему опять былая иль теперешняя явь: Галя и Генка, сующий ему в руки замятую папироску. А Генку он любил, верил в него, и ему было приятно думать о парне — мысли о нем всегда приходили ясные и чистые, как сама Генкина жизнь, как привычная работа, точно он землю пахал, а не о человеке думал, и хорошо было на душе от этих раздумий.
После таких ночей он не чувствовал усталости, той, о которой давно уже позабыл, о которой вспоминалось, как о счастье, — усталостью стала теперь вся его жизнь, он привык к ней и смирился.
Часто он думал по ночам, что надо бы ему поработать: дров поколоть или землю покопать, и порой ему чудилось, будто работой он сможет прогнать старческую притомленность, вечную свою слабость и хворь. Он всякий раз, когда приходили мысли о работе, радовался, чувствуя желание, слыша, как колотится сердце в предвкушении завтрашнего труда… Но наступало утро, и он бессильно держал и гладил глянцевитый черенок лопаты, знакомый до мелочей, с отшлифованным, блестящим сучком, с какими-то одному ему только известными выемочками и бугорками, и черенок ускользал из его сухих ладоней…